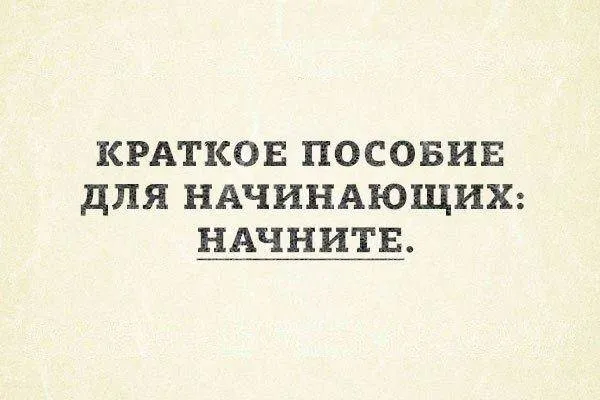
Вы никогда не задавались вопросом: что общего у всех, без исключения, философских и религиозных систем, когда-либо придуманных людьми?
Я задавался, и сформулированный мною ответ звучит так: все философские и религиозные системы человечества направлены на одно - чтобы человек научился управлять собой. Неважно, что читать - древнекитайскую книгу "Дао Дэ цзин" или рассуждения современного нам "лайфкоуча", популярно излагающего написанное Ошо, Кастанедой или, может, даже Блаженным Августином. Всё равно в итоге суть будет одна - либо человек посредством практики научается управлять собой, либо нет.
В последнем случае человек может остаться инфантильным до седых волос, так и не поняв, что жизнь пролетела мимо.
Если вы читаете эти строки, то, вероятно, упомянутый последний случай вас не устраивает. Как не устраивал он меня, когда я в возрасте около 25 лет впервые подступился к человекостроению. Сейчас мне за 40, и прошедшие полтора десятилетия на прошли зря.
Нет, я не "лайфкоуч", и не стану пытаться учить вас жить. Я - практикующий человекостроитель, развивший в себе волю, то есть - способность управлять вниманием. И направлять это внимание на такие аспекты человеческой деятельности, которые зачастую остаются на обочине жизненных дорог.
- Если вы хотите знать, как обуздать ваш ум, скачущий, будто свихнувшаяся обезьяна;
- Если вам интересно, как развивать свою личность не через умственный онанизм, а через действие;
- Если вам не хватало живого примера человека, полностью изменившего свою жизнь -
Этот блог, наверное, поможет вам.
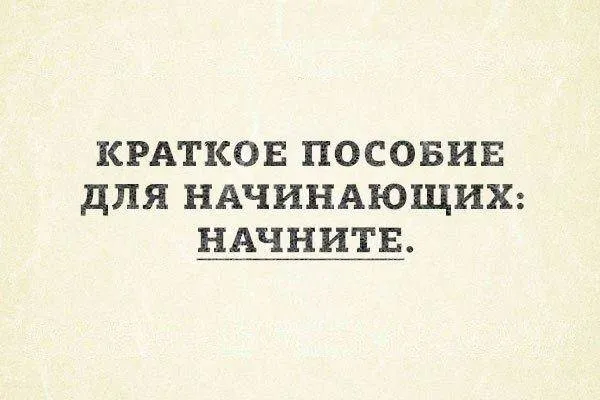
Вы никогда не задавались вопросом: что общего у всех, без исключения, философских и религиозных систем, когда-либо придуманных людьми?
Я задавался, и сформулированный мною ответ звучит так: все философские и религиозные системы человечества направлены на одно - чтобы человек научился управлять собой. Неважно, что читать - древнекитайскую книгу "Дао Дэ цзин" или рассуждения современного нам "лайфкоуча", популярно излагающего написанное Ошо, Кастанедой или, может, даже Блаженным Августином. Всё равно в итоге суть будет одна - либо человек посредством практики научается управлять собой, либо нет.
В последнем случае человек может остаться инфантильным до седых волос, так и не поняв, что жизнь пролетела мимо.
Если вы читаете эти строки, то, вероятно, упомянутый последний случай вас не устраивает. Как не устраивал он меня, когда я в возрасте около 25 лет впервые подступился к человекостроению. Сейчас мне за 40, и прошедшие полтора десятилетия на прошли зря.
Нет, я не "лайфкоуч", и не стану пытаться учить вас жить. Я - практикующий человекостроитель, развивший в себе волю, то есть - способность управлять вниманием. И направлять это внимание на такие аспекты человеческой деятельности, которые зачастую остаются на обочине жизненных дорог.
- Если вы хотите знать, как обуздать ваш ум, скачущий, будто свихнувшаяся обезьяна;
- Если вам интересно, как развивать свою личность не через умственный онанизм, а через действие;
- Если вам не хватало живого примера человека, полностью изменившего свою жизнь -
Этот блог, наверное, поможет вам.