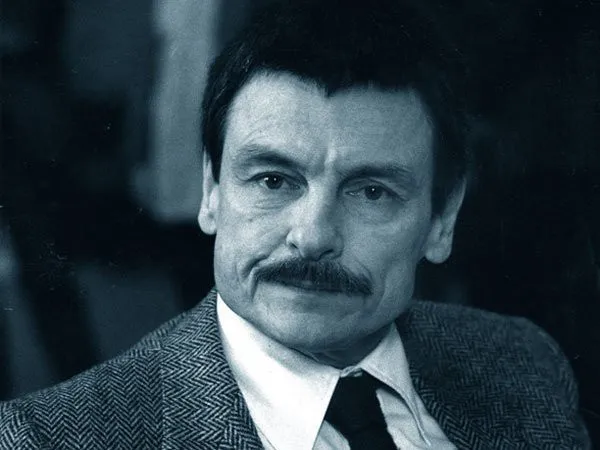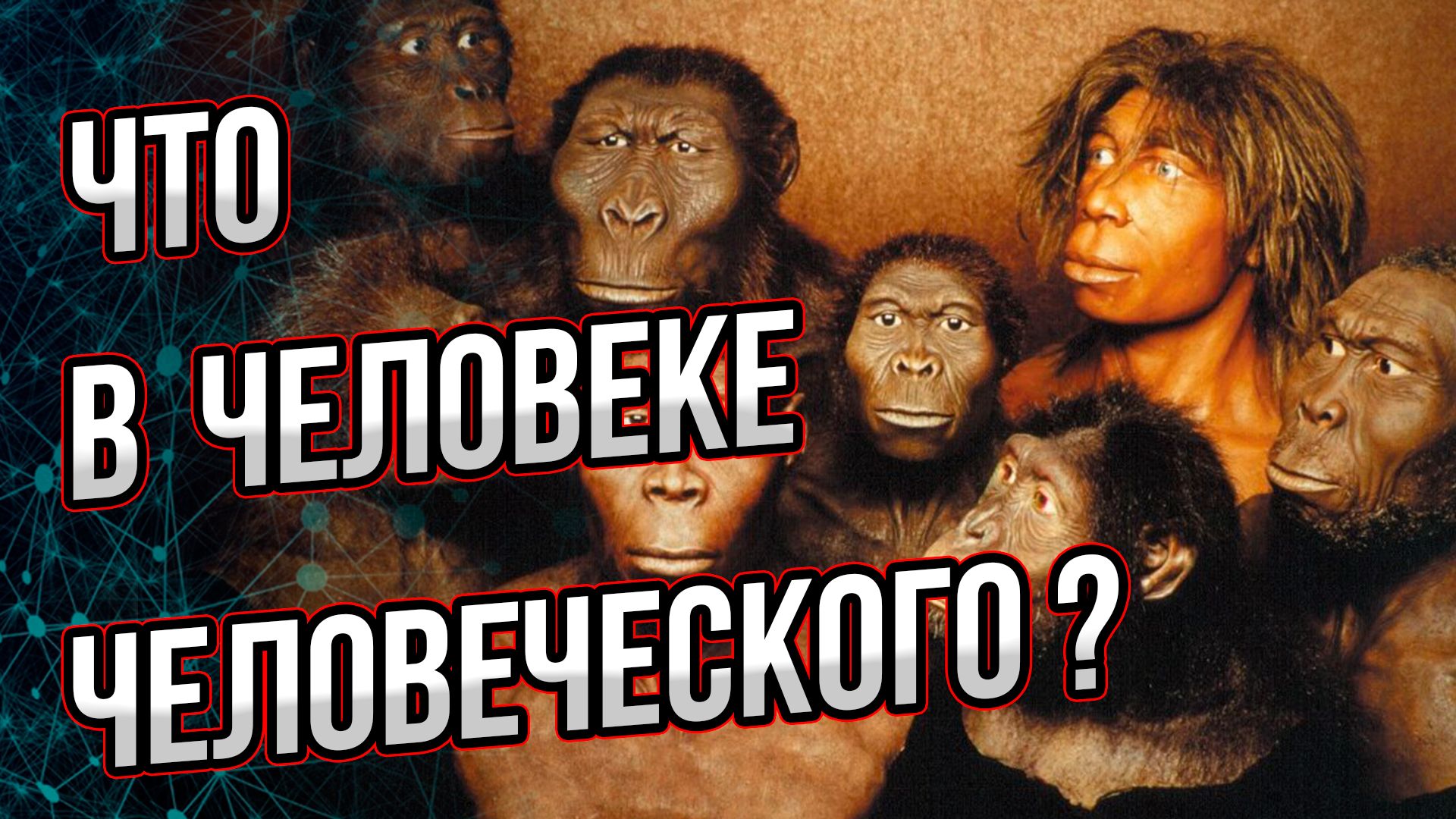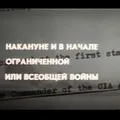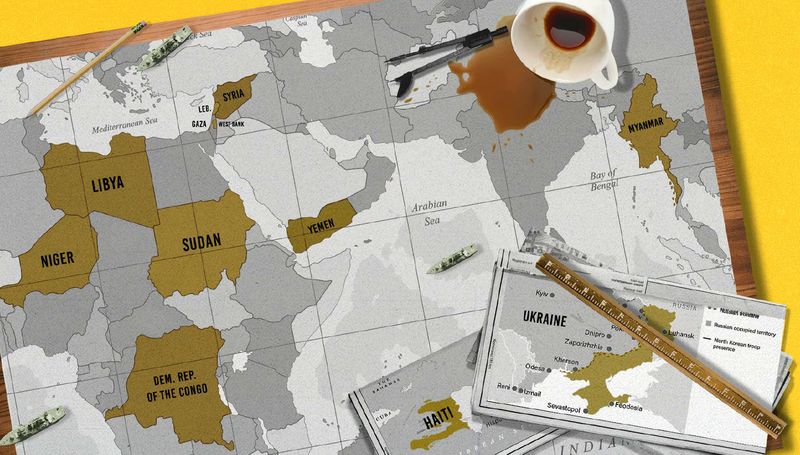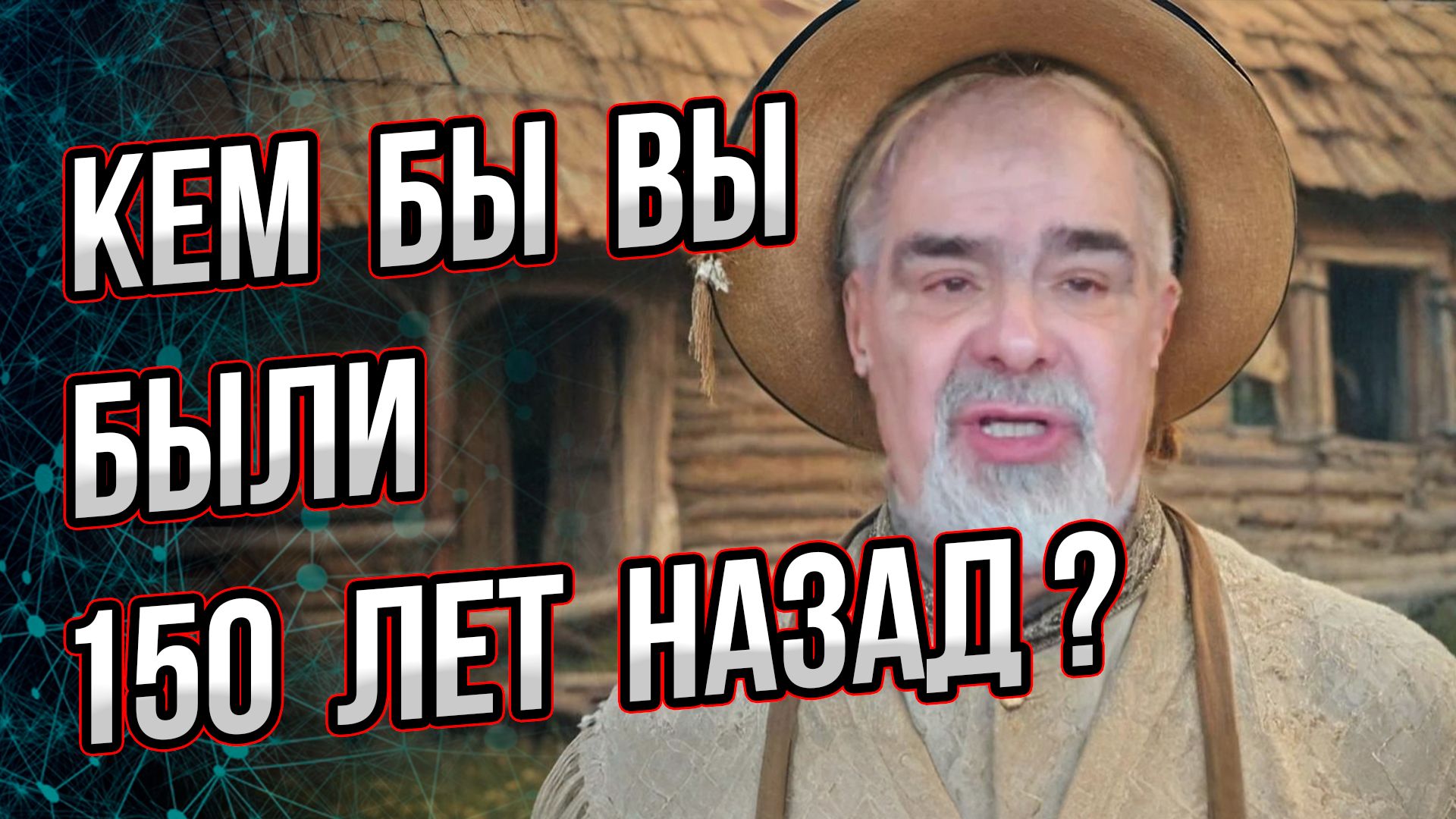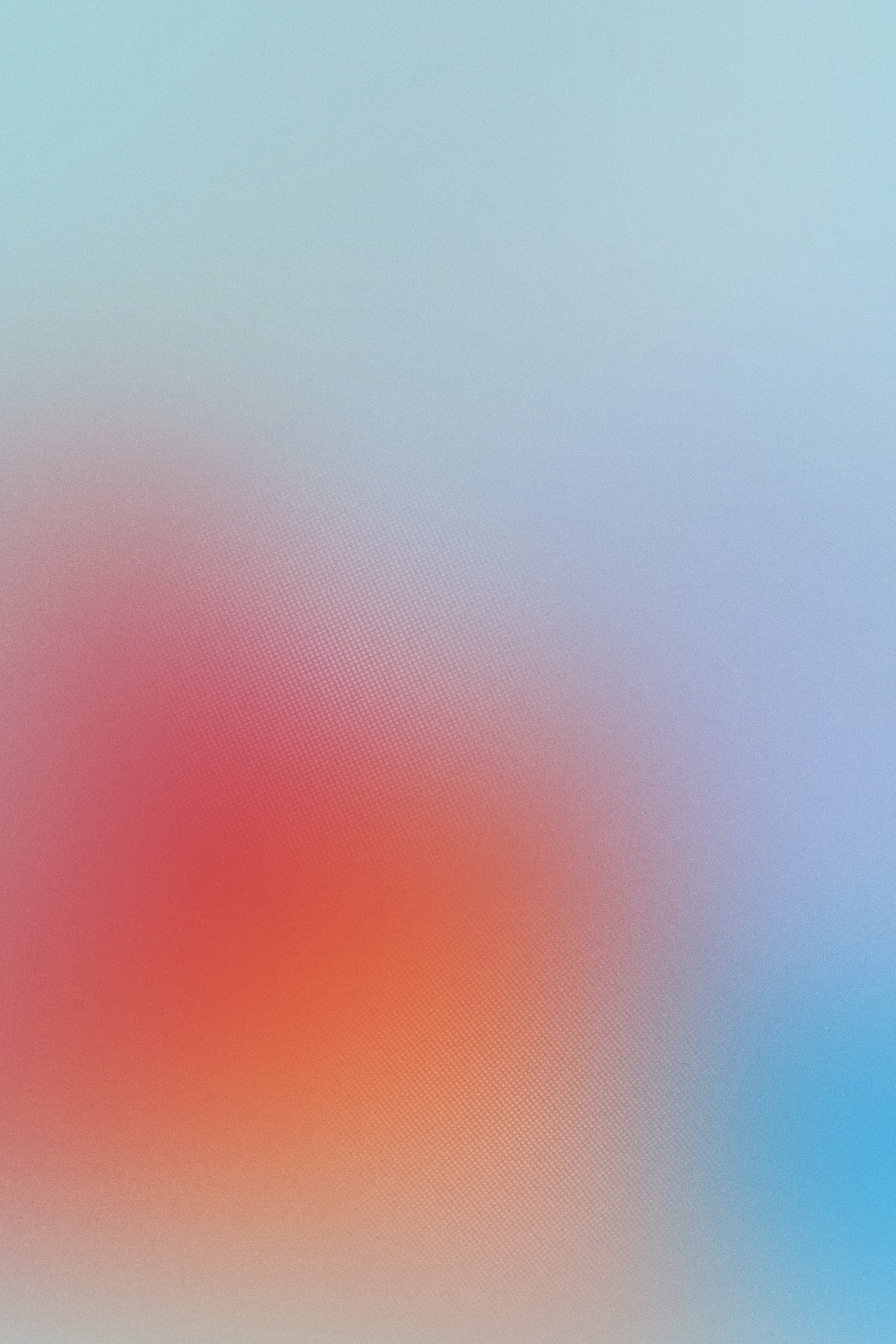Воспоминание о былом.
Школа Сюэ
Глава 1 — Услышав о нем, люди отвернулись
Сюэ Дянь (1887 — 1953) уроженец уезда Шулу, провинции Хэбэй. Учился у мастера Ли Цуньи, а позднее поклонился мастеру Ли Чжэньбаню из Шаньси и мастеру Линкун из Утайшань. После возвращения из Шаньси, заведовал академией боевых искусств (гуошугуань) в Тяньцзине. Написал учебное пособие «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства».
Не так давно, (я) увидел переиздание старых пособий по боевым искусствам, среди которых была книга «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства» 1933 года. Вздохнув, я вспомнил об ушедшем (времени) шестидесятилетней давности.
Моя молодость пришлась на эпоху Сюэ Дяня. Его имя гремело на каждом углу и унаследовав стиль боя Ли Цуньи, он заведовал работой в академии гуошу, день за днем приумножая славу синьицюань. В наших глазах он был почти что богом, человеком великих дел.
Два моих учителя, Тан Вэйлу и Шан Юнсянь, были очень близки с ним. Окрепнув телом, (я) решил что взрастил гунфу и подумывал вызвать его на бой. Ведь если доходишь до первого этапа постижения синъицюань «видимой силы» (明劲 — минцзинь), то просто необходимо испробовать себя в бою.
Сказав об этом учителю Шану, тот ничего не ответил. А когда через пару дней из Нинхэ приехал учитель Тан, то (он) жестко отчитал меня. «Ты не понимаешь. Он демонически быстр и свободно переходит от одного действия к другому. И хотя внешне (Сюэ Дянь) похож на школьного учителя, в бою его взгляд обретает звериные черты, ввергая в страх даже крепких духом».
Шан Юнсян отдыхал в дворике своего дома. Мастер Тан подвел меня к нему и подкинув ногой тыкву горлянку, протянул ее мне со словами: «Пробьешь ударом насквозь, тогда можешь вызвать Сюэ на бой». Помню, как его пристальный взгляд смутил и опустошил меня. И хотя тыква настолько мягка, что и ребенок пробьет ее, я не смог поднять рук. Увидев как мое эго ушло, мастер Тан сказал: «Сюэ считается твоим дядей по школе. Вызвав его на бой, ты поднимешь всех нас на смех. Он наиболее известный (среди нас) и стоит понимать, что лучше оберегать его (имя)».
Как-то, я помог другу мастера Тана отбиться от шпаны на улице. Этому старику было около 70 лет, хотя он выглядел достаточно крепким. В благодарность, он пригласил меня к себе, и мы проговорили весь вечер. Дойдя до Сюэ, он рассказал, что тот был поздним учеником Ли Цуньи, и мастер часто расхваливал его перед другими.
Как-то раз, Сюэ Дянь и его старший брат Фу Чанжун подрались на втором этаже ресторана. Сюе сказал: «Здесь не место для драки», на что Фу ответил: «Мне и не понадобиться много места, чтобы побить тебя». Сюэ торопливо подал руку вперед, а Фу выполнил прием «ладонь оборачивающего тела» и скинул Сюэ через перилла, со второго этажа вниз. Упав, окружающие подумали, что он сломал кости и не сможет встать. Однако, с легкостью вскочив, Сюэ крикнул: «Я еще приду к тебе» и ушел.
После этого он пропал. Лишь когда умер Ли Цуньи он появился вновь. Сам Сюэ рассказывал, что поселился в горах Утайшань. Он редко упоминал об обучении у мастера Ли и в основном, утверждал что обучался у старого монаха — Усю Линкун (Старик небесной пустоты). Будто тому было 120 лет, что выглядело как мистификация и мало кто верил в это.
Но разве мог Сюэ Дянь постичь боевое искусство у того, кого никогда и не было? Само имя «Старик небесной пустоты» говорит что его нет. А имя небесный или духовной пустоты очень напоминает фразу — «уходящий в небо», т. е. уходящий в нирвану. Не намек ли это на термин «условной реальности» в буддизме? Также возраст 120 лет это 2 полных цикла традиционного календаря. Подсказка на то, что человек дважды родился?
Видимо, то поражение повлияло на Сюэ, и он сам изгнал себя из школы. Будто решил, что подвел мастера и придумал мистическую линию передачи от неведомого монаха. И хотя это только догадка, мне кажется, что монах существовал на самом деле. Лишь имя было другим, а какое, (я) уже и позабыл.
Вернувшись, он выглядел очень открытым. Но люди не могли разглядеть того, что было (в нем). Как-то, он продемонстрировал свое мастерство на собрании практикующих. Всего несколько шагов, словно танец. Но в каждом действии его тела, была невероятная согласованность, что-то звериное, заставляющее застыть всех смотрящих. Невероятное, очень необычное состояние ци, цзинь, шэнь. Тут же кто-то начал говорить, что его тело обрело волшебные метаморфозы. И закончив демонстрацию, он вызвал Фу Чанжуна на бой.
Я слышал, что это жутко перепугало Шан Юнсяна. «Мы все братья одной школы! Конечно, мы не так близки, как кровные, но наши связи ближе, чем с двоюродными! Как же можно биться до смерти?!» — закричал он. И в итоге отговорил Сюэ от боя. А после, на правах старшего (брата), уговорил взять на себя обучение группы Ли Цуньи и возглавить тяньцзиньскую академию гуошу.
Несмотря на то, что преподавание боевых искусств проходило под лозунгами укрепления страны и народа, в синъицюань есть строгое правило, не допускать повсеместной передачи учения. Поэтому многие материалы и книги по стилю касались лишь общих вещей. Только дойдя до определенного момента, ты мог понимать значения наставлений.
И напомню, что это была эпоха кризисов. В этих условиях, Сюэ Дянь раздумывал, как создать материал для быстрого самообучения стилю. Так и появилась книга «Истинная оценка образов и форм кулачного искусства». Те, кто получил истинную передачу, посмотрев, тут же понимали, о чем идет речь. Конечно было понятно, что это синъицюань. Получается, что таким образом он хотел избежать нарушения правил и назвал книгу искусство образов и форм, а не синъицюань?
Это догадка, но «искусство образов и форм» и синъицюань имеют общую, древнюю связь. Ее написание было словно надеждой, на побуждение к самоотверженности практикующих. Ведь боевое искусство — это искусство движения, которое должно передаваться от человека у которого ты учишься на примере. И лишь потом, (ты) можешь осмыслять (технику) самостоятельно. Поэтому не получиться заложить хорошую основу по книгам, практикуя без учителя.
Так несмотря на его известность, поражение в том бою оставило отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Погиб он трагично. (В 1953 году его расстреляли как члена религиозного культа). И долгое время знающие его люди, предпочитали не говорить о нем и не особо почитали его последователей.
Книга же написана красивым и простым языком. Трудно встретить столь чистый и ясный слог, где читатель быстро вникает в суть и может самостоятельно заниматься изучением разделов (книги).
- Общие положения. 1 глава 4 раздел, метод стояния как медленная практика вхождения на путь.
Многие знают, что одной из ключевых особенностей синъицюань, является практика стояния. Но вот как стоять, не ясно. В некоторых книгах говорится лишь о том, что нужно подтянуть макушку, язык, уши, нос. О том, что нельзя двигаться. Словно совершаешь буддийскую практику созерцания. И чем дольше стоишь неподвижно, тем лучше. Это ошибочное мнение. Если будешь держать себя, создашь напряжения мышц и лишь испытаешь разочарование (со временем).
Здесь открывается небольшой секрет. Практика стояния — это о движении. Не о практике неподвижного созерцания, а медленная тренировка (движения). Сюэ Дянь говорил так: «Методы стояния — это медленная практика. Медленно, посредством духа и намерения, приходишь в движение, раскрывая четыре конечности». Только об очень медленном (движении), что непонимающие люди этого не замечают.
Эти слова «Медленно посредством духа и намерения приходить в движение» на вес золота. Они разъясняют, что эффект от стояния направлен на: «чистоту (здоровья) внутренних органов, раскрытые каналы и меридианы, крепость костей, костного мозга и наполненность жизненных сил». Особенно есть указание на то, что «обостренная (острая) реакция нервной системы» это ошибочный результат тренировки.
2. 11 глава. 12 раздел. О дыхании.
Многие знают что синъицюань это искусство внутренней семьи. Получается, что посредством кулачного искусства, можно постичь путь (дао). Но в трактатах только описание тренировки боевого и очень смутно (простыми словами из даосского канона) описано, как же можно постичь путь. Сюэ говорит о цельном дыхании тела, как о методике (синъицюань) для вступления на него. В его тексте сказано: «Со всех сторон (тела), из всех малых пор, поднимается словно пар иль туман дыхание тела». Это и есть мастерство. Именно так дышит дух. Не получив истинной передачи, не усердствуя в практике — не дойдешь до предела и сложно будет вступить на путь.
3. Первый том. 6 глава. Первый раздел. Пять методов сплетаются в жемчужную нить.
В практике синъицюань есть понятие «кружевные руки» (圈手). Еще технику называют — «ветер раскачивает иву». Этими движениями можно как атаковать (противника), так и укрепить тело. Говорят в ней хранится главная суть кулака пяти элементов и форм двенадцати зверей. Не получившие передачу, предполагают, что это такая же практика, как и облачные руки тайцзицюань, где двумя руками (практикующий) описывает круг.
В действительности же, это похожая практика, но круг описывается не только двумя руками, а все тело приходит в движение.
Синъицюань использует понятия кулака пяти первоэлементов: метала, дерева, воды, огня, земли. Им соответствуют усилия: рубящего, пробивающего, буравящего, взрывного, горизонтального кулаков. Сюэ в своей книге свел их к понятиям: «полета, облака, встряхивания, колыхания, вращения». Так два понятия «полета» и «облака» взяты из фехтования. И (знающие) сразу могут угадать в этом методы изменения кулаков пяти первоэлементов из синъицюань. Словно изменили суп, не изменив его наполнения.
Но если серьезно, то его пять методов взяты не из кулака пяти элементов. Даже кружевные руки имеют очень древнее происхождение. Поэтому лучше уделить внимания изучению того, как он нанизывает пять методов в эту жемчужную нить и как он разъясняет их суть и различия.
Перевел Хван Кирилл. 2023