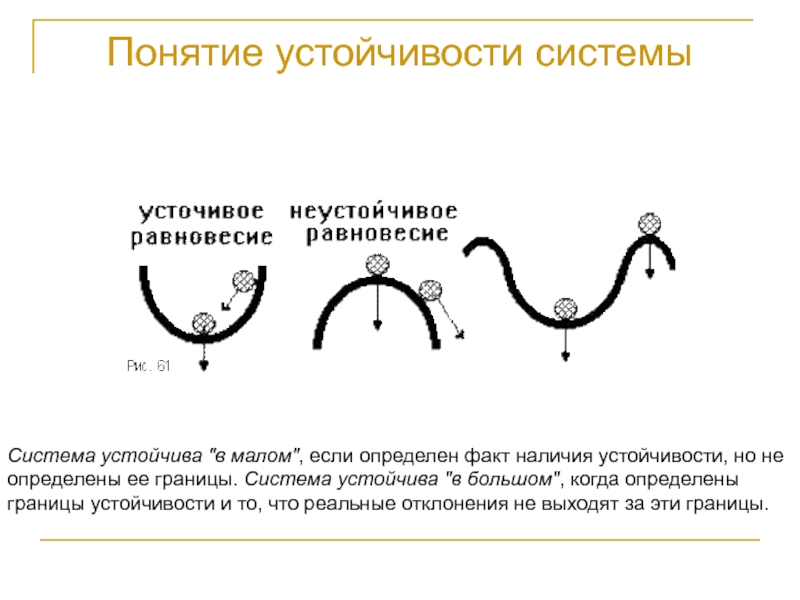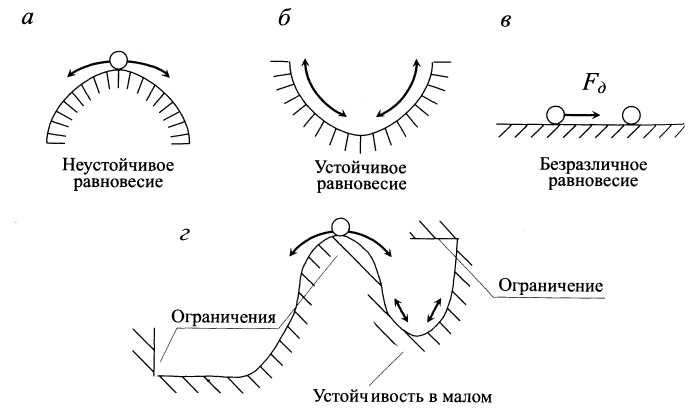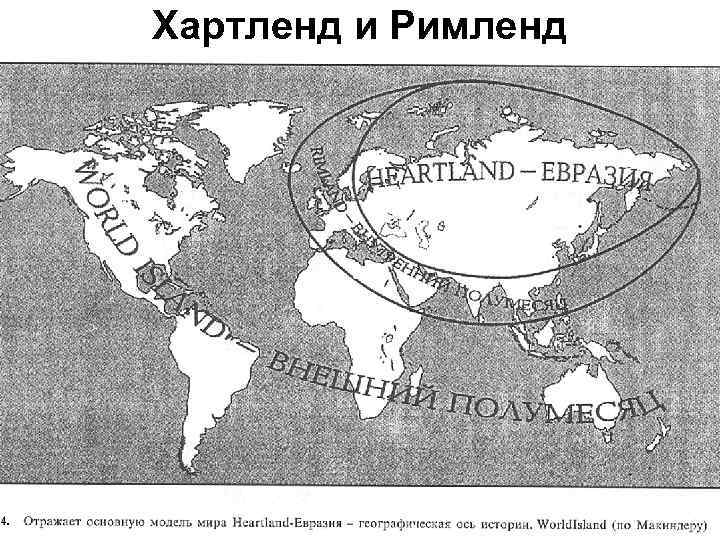Спасение утопающих –дело рук самих утопающих.
«Не спрашивай по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе.»
Всегда.
ЧАСТЬ I.
Материалы блога остаются открытыми на благо широкой общественности.
Именно из особой общественной значимости материалов блога автор не может требовать возмещение многолетних затрат прошлого и настоящего, однако, имеет все моральные основания к тому, чтобы предупредить о возложенном на читателя обременении, которое будет способствовать дальнейшему развитию проекта, в том числе в части исследования как Теории Эволюционной Конкурентной Борьбы за выживание, так и вопросов, связанных с ней, в том числе, в практической плоскости.
Спасение утопающих –дело рук самих утопающих.
«Не спрашивай по ком звонит колокол, он всегда звонит по тебе.»
Всегда.
ЧАСТЬ I.
Материалы блога остаются открытыми на благо широкой общественности.
Именно из особой общественной значимости материалов блога автор не может требовать возмещение многолетних затрат прошлого и настоящего, однако, имеет все моральные основания к тому, чтобы предупредить о возложенном на читателя обременении, которое будет способствовать дальнейшему развитию проекта, в том числе в части исследования как Теории Эволюционной Конкурентной Борьбы за выживание, так и вопросов, связанных с ней, в том числе, в практической плоскости.