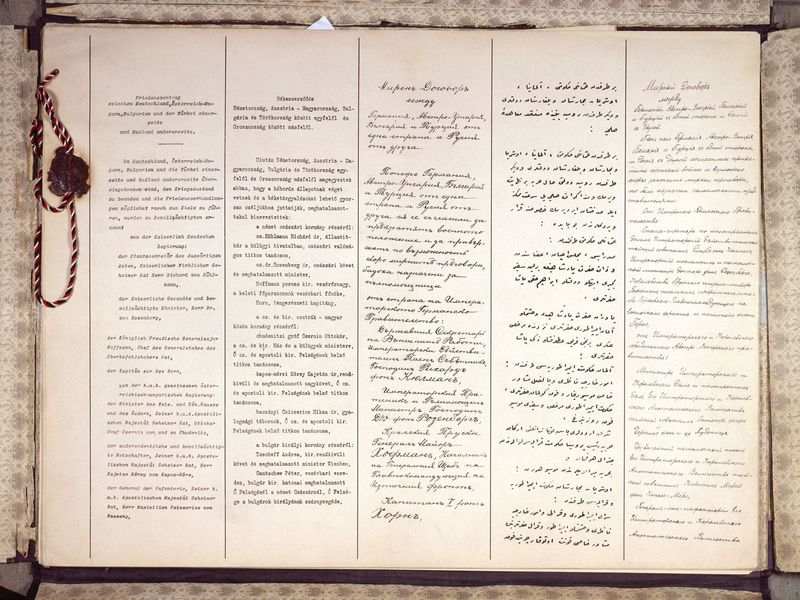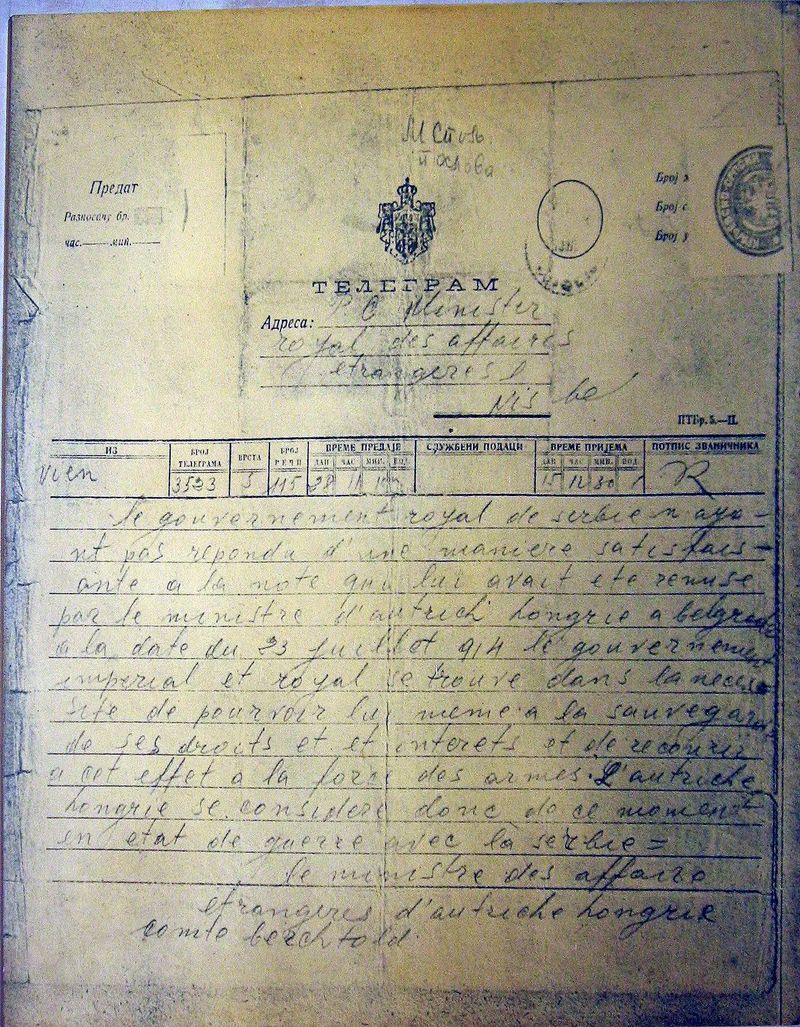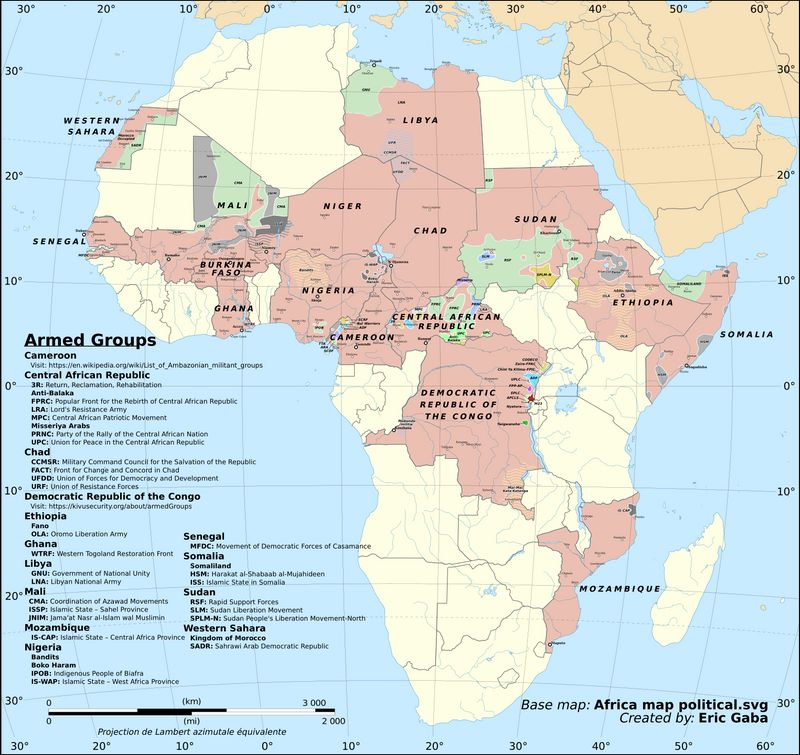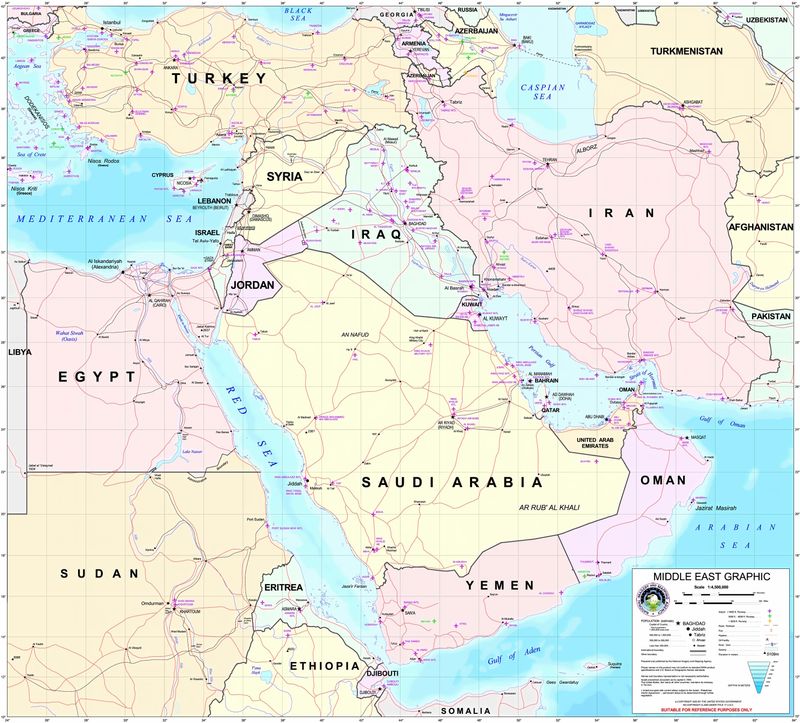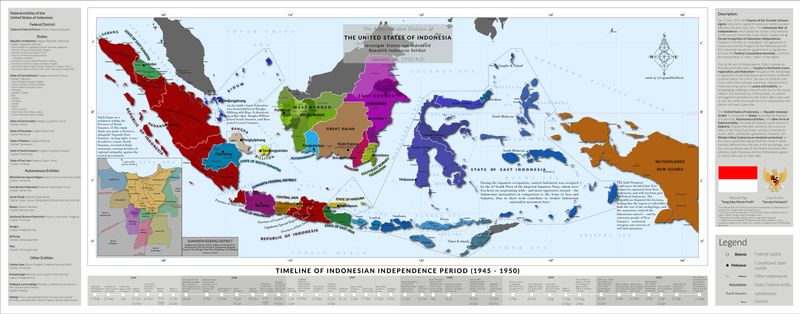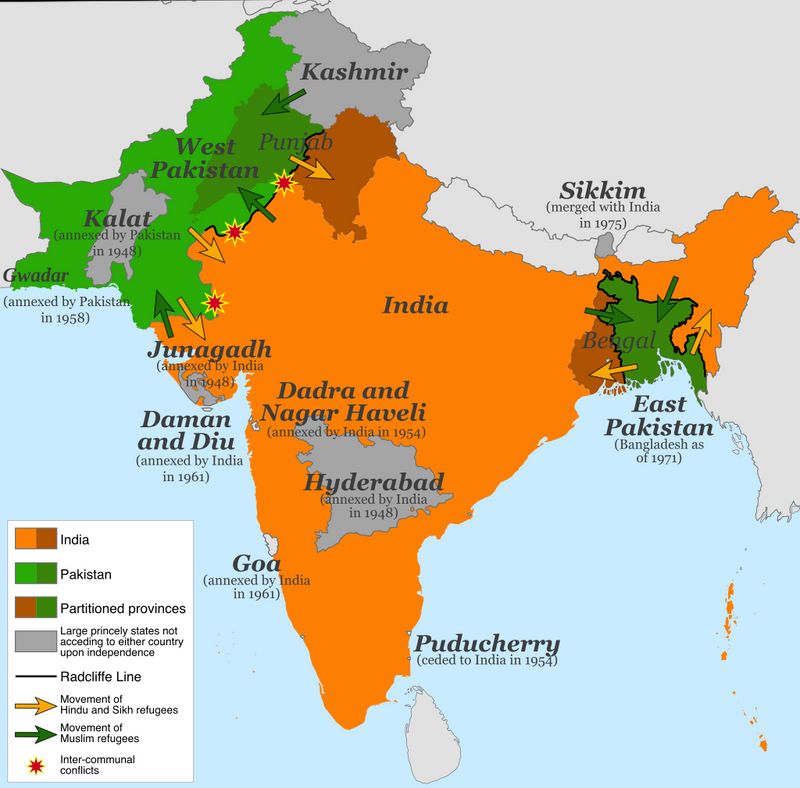Данная статья была впервые опубликована в апреле 2023 г. Здесь же приведена её обновлённая и улучшенная версия.
Напомню краткое содержание первой части моих размышлений об административно-территориальном и муниципальном делении Петербурга:
1. Территориальное деление Петербурга представляет собой парадокс. С одной стороны, оно напоминает многоуровневую «берлинскую» систему, распространенную во многих городах Европы. С другой — оно словно поставлено с ног на голову: муниципальными полномочиями наделён не наиболее крупный (следующий после городского), а самый мелкий уровень территориальных единиц. Между тем этот нижний уровень не обладает большой налогооблагаемой базой, с каждым годом всё меньше что-либо контролирует, а граждане себя редко с ним идентифицируют. Напротив, более крупный и знакомый петербуржцам уровень власти — районы — никаким самоуправлением не обладает и является просто «аватаром» Смольного на местах.
2. В ранний постсоветский период в Петербурге существовали районные советы, которые фактически играли роль местного самоуправления (формально его просто не было). Однако к 1997 г. они окончательно были упразднены и заменены сеткой мелких МО, а районы стали чисто административной единицей.
3. С начала 2000-х оппозиция в ЗакСе и некоторые представители власти выступали за реформу муниципального устройства Петербурга — либо в формате передачи местного самоуправления на районный уровень, либо в формате укрупнения существующих МО. Однако эти проекты не были реализованы.
Теперь поговорим о том, что с муниципальным делением Петербурга хотят делать нынешние городские власти и какую альтернативу их проектам могу предложить я.
«Реформа без реформы»
Осенью 2021 г. в Петербурге появились слухи о том, что Смольный планирует в ближайшее время провести муниципальную реформу. Сам Смольный, впрочем, прямо ничего подобного не заявлял. Слухи в целом подтвердил спикер ЗакСа Александр Бельский, однако из его слов чёткой картины не складывалось. Да, реформа нужна, но торопиться с ней не нужно, поскольку необходимо посоветоваться с гражданами и создать рабочую группу из представителей законодательной, исполнительной и муниципальной власти. Также Бельский отмечал, что у властей пока нет ясности, как именно должны выглядеть новые муниципалитеты: сохраниться в текущих границах, совпадать с районами или с избирательными округами ЗакСа.
Неофициально появлялись различные предположения на тему того, как изменится сетка МО в результате реформы. Например, публиковались списки муниципалитетов, которые якобы будут объединены. Однако перечисленные округа даже не всегда граничили друг с другом, а порой описанные границы выглядели настолько невероятно, что всерьёз воспринимать эти «инсайды» было невозможно.

После начала СВО идея муниципальной реформы в Петербурге отправилась в долгий ящик. О ней периодически вспоминали, но обсуждение конкретики возобновилось лишь год спустя, осенью 2022 г. В марте 2023 г. депутат от ЕР Денис Четырбок внёс в ЗакС проект закона, позволяющего властям объединять МО, если такое предложение одобрят общественные слушания и муниципальные советы в затронутых округах. Однако время шло, а законопроект никуда не двигался, и уже к сентябрю того же года источники в органах власти сообщали, что реформы не будет как минимум до президентских выборов. А в сентябре 2024-го, после новых муниципальных выборов, депутат ЗакСа и председатель Совета муниципальных образований Всеволод Беликов заявил на встрече новоизбранных муниципалов с депутатами городского парламента, что «на сегодняшний день предпосылок к этому [реформе] нет» — и глава Комитета территориального развития (КТР, департамент петербургского правительства, отвечающий за взаимодействие с муниципалитетами) Денис Царегородцев с этим согласился. С тех пор тема муниципальной реформы заглохла, и, хотя она в любой момент может быть поднята вновь, говорить о скором её воплощении не приходится.
Нужно отметить, что в городском руководстве звучала и откровенная критика данной идеи. Так, в марте 2023 г. тогдашняя глава КТР Наталья Чечина прямо заявила, что простое объединение МО — это ещё не реформа, а осуществление этого шага приведёт к росту числа «безработных людей, критиков и оппозиционно настроенных избирателей». Трудно с ней не согласиться — хотя, безусловно, наиболее негативные последствия такой «реформы» заключаются в другом.
В целом пока неясно, что именно Смольный хочет (или хотел) сделать с МО. Иногда в медиа упоминается цифра 70 — якобы примерно столько муниципалитетов, по данным источников в руководстве Петербурга, должно остаться в городе. Однако неясны ни их границы, ни принцип, по которому они будут формироваться. Численность населения? Избирательные округа ЗакСа? Что-то ещё? Ответов на эти вопросы никто не мог дать и, похоже, уже не даст — если только реформа не будет вновь вытащена из небытия, когда изменится обстановка в стране и мире.

Бросается в глаза, что тема реформы муниципальной власти — по идее, самой близкой к рядовым гражданам — в Петербурге обсуждается исключительно в top-down, верхушечном ключе. Мнение самих горожан заранее исключено из повестки дня: речь идёт почти исключительно о том, какой вариант выберет федеральное и городское руководство. При этом аргументы в пользу того или иного решения зачастую основываются не на долгосрочных интересах города, а на сиюминутных политических интересах — как Смольного, так и федеральной власти.
Что ж, раз полноценного гражданского диалога по теме устройства муниципалитетов вообще и муниципальной реформы в частности у нас (пока) нет — попробую его начать. Начну с самой старой и, пожалуй, самой популярной идеи — передать муниципальные полномочия на уровень районов.
Райсоветы: за и против
Административные районы Петербурга — это достаточно крупные единицы: в некоторых проживает более полумиллиона человек, как в неплохом областном центре. У районов территория значительно больше, чем у МО, что даёт обширную налогооблагаемую базу — точнее, давало бы, если бы районы могли собирать налоги. Также районы куда лучше укоренены в идентичности петербуржцев, чем муниципалитеты: по этому историческому делению горожане себя определяют куда чаще, чем согласно «искусственной» сетке органов местного самоуправления. Быть может, действительно имеет смысл передать муниципальные полномочия на районный уровень?
Как я уже отмечал, у этой идеи было и есть довольно много сторонников, в том числе среди депутатов Законодательного Собрания и муниципальных советов. К тому же исторически Петербург (Ленинград) уже имел долгий опыт жизни с выборной (пусть и формально) районной властью. И хотя в 1990-е город пошёл не путём наделения формальных институтов реальными полномочиями, а путём уничтожения даже фасадной самостоятельности районов, опыт райсоветов не был совсем забыт.

На мой взгляд, у идеи района как муниципалитета действительно есть свои плюсы. Воссоздание райсоветов поможет, с одной стороны, обеспечить представительство местных жителей на реально (а не декларативно) дееспособном уровне власти, повысит подотчётность районных администраций гражданам, а главное — даст возможность добиваться масштабных, а не только косметических изменений благодаря куда большему бюджету. В этом отношении самоуправление на уровне района куда перспективнее, чем на уровне муниципалитета. Если бы выбор стоял между сохранением существующей системы и переходом к райсоветам, я бы, пожалуй, поддержал второй вариант.
Однако есть у этой идеи и крайне важный минус, который также не может не беспокоить очень многих. Величина существующих в Петербурге районов — это не только достоинство, но и недостаток. У нас есть как очень небольшие и гомогенные районы — вроде Кронштадтского (который совпадает с МО Кронштадт) или Центрального, так и огромные, разделенные естественными и искусственными преградами, включающие в себя очень разнообразную застройку и даже разные населённые пункты — вроде Невского или Пушкинского. Если территория из 2-4 небольших и схожих между собой МО только выиграет от объединения администраций и бюджетов, то в большом и разнообразном районе обязательно появятся проигравшие — территории, оказавшиеся «на отшибе», недостаточно населенные, слишком непохожие на другие и т. д. Для них утрата даже скромного местного самоуправления и бюджета может привести к упадку из-за доминирования в районном совете более успешных соседей.
Проблема усугубляется ещё и тем, как проводились границы районов в советское время. Большая их часть, кроме пригородных, имеют «лепестковую», секторную форму — тянутся от исторического центра к окраинам, словно лепестки цветка или куски пирога. Советская власть то ли не успевала, то ли в принципе не хотела наделять собственной администрацией присоединяемые к городу территории и просто «пристёгивала» их к старым районам. Отсюда возникла ситуация, когда почти каждый район представляет собой срез «исторического древа» Петербурга: в нём можно найти и дореволюционный доходный дом, и сталинскую школу, и позднесоветские панельки, и тридцатиэтажные новостройки. Это по-своему трогательно, однако с точки зрения управления территорией и согласования интересов жителей разных частей района это превращается в проблему. Райсовет большого района рискует стать полем бесконечной битвы между разными его концами, перетягивающими одеяло на себя.
На мой взгляд, лучший способ совместить достоинства и избежать недостатков нынешних районов и муниципальных образований — это «перезагрузка» местного самоуправления на основе единиц промежуточного размера. Далее я буду называть их просто новыми районами.
Принципы новых районов
Новый район, в моём представлении — это муниципальная единица, как правило, меньшая, чем нынешний район, но большая, чем муниципальное образование. Если упрощать и не брать в расчёт центр города и пригороды с их спецификой, то новый район — это разделённый поперёк примерно пополам старый. Так я видел эту концепцию ещё лет семь назад, когда она впервые пришла мне в голову. Однако нужно было понять, как именно должны проходить границы новых районов.

Я сразу отверг принцип равной численности населения — и, следовательно, принцип строгого соответствия районов избирательным округам ЗакСа (которые, как известно, должны быть примерно равными по числу избирателей). Наиболее очевидный недостаток этого принципа — непостоянство. Даже за последние десять лет численность населения некоторых территорий радикально изменилась из-за новостроек. Скорее всего, этот процесс продолжится, особенно в «сером поясе» (старые промзоны). Какой смысл в границах, которые станут неактуальны буквально через пять-десять лет?
Впрочем, у попыток создать равные по численности населения районы есть и другая проблема. Плотность населения города неоднородна уже сейчас, без учёта будущих изменений. Некоторые кварталы новостроек сопоставимы по числу жителей с целыми МО. Если стремиться к равной численности населения в районах по всему городу, то одни из них будут состоять из нескольких тридцатиэтажных «человейников», а другие — представлять собой огромные «пустоши» из малоэтажной застройки.
Тем не менее, полностью игнорировать фактор численности населения при проведении границ районов также невозможно. Главным образом это связано с эффективностью управления и расходования средств: районы с малочисленным населением всё равно требуют заметных административных расходов, при этом налоговая база у них, как правило, значительно меньше, чем у крупных. Содержать администрацию даже в десять-двадцать сотрудников в районе, где живёт триста или даже тысяча человек — это, как правило, верный путь к убыточности местного бюджета, к разочарованию граждан в самоуправлении и к зависимости муниципалитета от городских властей. Поэтому таких ситуаций я старался избегать. Малонаселённые новые районы я планировал либо там, где территория всерьёз изолирована от соседей, либо там, где наблюдается явная тенденция к росту населения за счёт новостроек.

Есть ещё один, вроде бы очевидный способ проведения границ — исторический. В Петербурге множество исторических районов, многие из них хорошо известны местным жителям — почему бы не провести новые муниципальные границы на основе такого деления? Проблема в том, что сегодня эти границы зачастую неудобны. Многие исторические районы Петербурга — это бывшие сёла на окраинах, постепенно входившие в городскую черту. Территории этих сёл были небольшими и сегодня могут составлять буквально несколько кварталов, что ведёт к описанной выше проблеме маленьких районов, которые на практике будут «ни о чём». Также многие исторические районы за ХХ в. стали частями одного микрорайона с одинаковой застройкой, зримых границ между ними больше нет. К тому же на восприятие городских территорий повлияло метро, от которого зачастую и «отстраивается» местная идентичность сегодня. Поэтому в чистом виде исторические границы как основу для новых районов я не использовал — хотя там, где это было уместно, всячески старался их сохранять. Также я старался использовать названия исторических районов для новых районов, даже если их территории совпадают не полностью.
В ходе размышлений о размерах и границах новых районов я пришёл к выводу о невозможности использовать всюду одни и те же мерки. Петербург — город очень большой и разнообразный, и нельзя найти единый принцип, по которому можно провести границы повсюду. Поэтому вернее всего будет сказать, что новые районы я разграничивал согласно двум принципам, которые применял в разных соотношениях в каждом конкретном случае.
1. Принцип обозримости
Вытекает из описанной ранее проблемы «медвежьих углов». Новый район не должен быть слишком большим — чтобы в нём не было слишком много жителей, слишком много несогласуемых интересов, чтобы его банально можно было обойти пешком (мы не можем дать каждому муниципальному депутату машину и водителя). Новый район должен быть (относительно) небольшим, довольно гомогенным с точки зрения застройки, удобным для представительства интересов всех жителей и вместе с тем обладающим адекватными ресурсами. Это, в частности, значит, что новый район не может совмещать в себе слишком разные территории, быть «гибридом ежа с ужом» — даже если эти ёж и уж последние 70 лет просидели в одной клетке. В некотором смысле можно сказать, что принцип обозримости — это частный случай принципа субсидиарности, т. е. решения вопросов на самом низком из уровней, где это возможно и эффективно.

2. Принцип понятных границ
Вытекает из проблемы произвольности границ многих нынешних районов и МО. Никто не сможет внятно объяснить, почему граница между Калининским и Выборгским районом возле пл. Ленина проходит там, где она проходит. Меньше всего это понимают те их жители, у которых, скажем, детсад находится не через дорогу (там соседний район), а на дистанции поездки на автобусе (потому что там — всё ещё их муниципалитет). Обратная ситуация — в Невском районе, который в силу исторической инерции занимает огромную территорию аж на двух берегах Невы — хотя, казалось бы, трудно придумать более очевидную границу. Разумеется, есть и случаи, когда граница материальнее некуда — например, железнодорожная линия, как между Московским и Фрунзенским районами, но так бывает не всегда.
В общем, понятная граница — это граница, которая обусловлена вескими для самих местных жителей причинами и которую никак не получается (да и не приходит в голову) игнорировать. Это может быть естественная граница (река), искусственная (железная дорога), историческая (между бывшими сёлами) или архитектурная (между разными типами застройки). Главное — что она ясна, очевидна для местных жителей, а лучше всего — уже укоренена в их восприятии местности (даже если не закреплена официально). В идеале такая граница должна отражать ментальное разграничение «нашего» и «не нашего» пространства.
Созданные мной границы новых районов — это компромисс между этими двумя принципами. С одной стороны, район не должен быть слишком большим и разнородным. С другой стороны, мы не можем проводить границу где угодно, ориентируясь исключительно на размер территории или число жителей — она должна быть понятной и обоснованной.
Там, где границы существующих МО более или менее отвечали этим двум условиям, я старался использовать их. Там, где нет — искал другие ориентиры. Изменению подверглись главным образом те границы, которые вопиюще нарушали принцип понятных границ — например, когда МО располагался по обе стороны крупной железнодорожной ветки.
Отдельно отмечу, что я намеренно не рассматриваю вопрос о внешних границах Санкт-Петербурга. Оптимальность границ города и области — это отдельная тема, затрагивающая сразу два региона и потому выходящая уже на федеральный уровень. Мои предложения касаются только внутригородских дел, которые петербуржцы могут решить сами, не получая на то соизволения у других субъектов РФ.
Новая муниципальная карта
Опираясь на вышеописанные принципы, я начертил на карте границы новых районов. Всего их у меня получился 51 — против нынешних 18 административных районов и 111 муниципальных образований. Посмотреть на новые районы можно здесь.
Не вдаваясь в подробное описание каждого из новых районов, опишу, как я применял два ключевых принципа в тех или иных случаях.
У островных районов исторического центра (Василеостровского и Петроградского) границы естественнее некуда — поэтому изменения почти их не затронули. Единственное отличие: намывные территории на западе Васильевского острова выделены в отдельный новый район Морской Фасад — ранее жители огромных ЖК на намыве хотели получить собственное МО, но вместо этого их земли разделили по линейке между тремя соседними муниципалитетами. В моём проекте эта несправедливость устранена.
У «континентальной» части центра границы больше не петляют по узким улочкам и заброшенным железнодорожным линиям. Адмиралтейский район «отказался» от территорий к востоку от Московского (район Витебского вокзала) и к югу от Обводного канала, зато получил весь «золотой треугольник» с Эрмитажем, Спасом-на-Крови и Летним садом, а также кварталы между Невским и Гороховой (включая, что логично, станцию метро «Адмиралтейская»). Центральный район же утратил территории за Фонтанкой, но получил всё, что лежит между ней, Московским, Звенигородской/Бородинской и Обводным. Самое заметное отличие «внешних» границ центральных районов от нынешних — то, что они больше не вылезают на юг за Обводный канал: там исторически заканчивался центр Петербурга (да и долгое время город вообще), так остаётся психологически и сегодня.
Районы на юге я обычно делил на две части — северную и южную, в соответствии с типом застройки, историческими границами и, по возможности, границами уже существующих МО. Так, в случае с Кировским районом это были его старая часть с Нарвской, Кировским заводом и Автово и более новая, т. н. «старый ЮЗ» — нынешние МО Красненькая речка, Княжево, Дачное и Ульянка. В отдельный новый район выделено МО Морские Ворота на Гутуевском и Канонерском островах — уж слишком оно обособлено не только от соседей, но и от всего Петербурга (на Канонерский так и вовсе попасть можно лишь автотранспортом через тоннель).
Чуть сложнее оказалась ситуация с Фрунзенским районом. Граница двух новых районов проходит по границам существующих МО и примерно соответствует исторической границе между Старым и Новым Купчино. Такое деление также коррелирует с разными типами панельной застройки (более ранней, из пятиэтажек и ранних девятиэтажек 1960-х — начала 1970-х, и более поздней, из домов в 9+ этажей конца 1970-х — 2000-х) и одновременно позволяет создать два района, схожих по площади и численности населения. Здесь я явно пожертвовал «понятностью границ» ради «обозримости». Если бы я строго следовал границам между историческими деревнями Волково и Купчино или между панельками и более старой застройкой, один из районов получился бы неоправданно маленьким, а другой — наоборот, слишком большим.

Текущие границы МО в Московском районе проведены с изуверским стремлением избежать хоть какой-то естественности. Какие-либо «понятные» границы в районе также найти сложно. Единственным более или менее приемлемым ориентиром может служить застройка. Более всего границу «старой» и «новой» части района напоминают Ленинский пр., Краснопутиловская ул. / Московское ш. и Дунайский пр.: к северу и востоку от него преобладают советские дома разных лет, к югу и западу — новостройки. При этом число последних всё растёт. Соответственно, возникают два новых района — Московский и Пулковский.
Левый берег Невского района был разделен надвое по границам существующих муниципалитетов, которые к тому же соответствуют характеру застройки: старая часть в составе Невской заставы и Ивановского и окраинная в составе Обухово и Рыбацкого. На Правом берегу сохранить существующие муниципальные границы оказалось сложнее, поскольку там они менее «понятны». В итоге были обособлены более старая и более новая панельная застройка (новые районы Весёлый Посёлок и Оккервиль), многоэтажные «человейники» в бывшей промзоне вдоль Невы (новый район Правобережный) и Уткина Заводь, которая также активно застраивается и при этом остаётся во многом отрезанной от соседей.
Искусственной границы Выборгского и Калининского районов по линии Литейного моста больше нет, равно как и ситуации, когда муниципалитет (МО Пискарёвка) разделён надвое крупной железнодорожной линией. Из МО Сампсониевское, Финляндского округа, а также расположенной к югу от ж/д части Пискарёвки и Полюстрова формируется новый Выборгский район — там, где исторически была расположена Выборгская сторона.
На севере Калининского и Выборгского районов главная зримая граница — протекающий с запада на восток Муринский ручей, который делит советскую застройку на старую и новую (т.н. «ФРГ» и «ГДР» — «Фешенебельный район Гражданки» и «Гражданка дальше ручья»). Схожую границу, проходящую с севера на юг, более всего напоминает широкий Тихорецкий пр. / пр. Культуры / Политехническая ул.: эта магистраль тянется вдоль сразу нескольких крупных зелёных зон, зримо разделяющих массивы жилой застройки (Парк Лесотехнической академии, Парк Политехнического университета, сад Бенуа, Сосновка и Муринский парк). К тому же эти улицы и сейчас разграничивают Калининский и Выборгский районы. При скрещивании этих осей запад-восток и север-юг образуются четыре новых района: Северная (Новая) и Южная (Старая) Гражданка, Светлановский и Просвещения.

Довольно просто переустроить Красногвардейский район — в четырёх из пяти его муниципалитетов легко угадываются готовые «под ключ» Охтинский район (нынешние МО Большая и Малая Охта) и Ржевка-Пороховые (два одноимённых МО). Единственная сложность — МО Полюстрово с его абсолютно неестественными границами и огромной площадью. Но и здесь есть решение: участок к югу от ж/д становится органичной частью нового Выборгского района, а территория Ручьёв и Новой Охты получает самостоятельность в виде нового района Ручьи.
Курортный район при своём небольшом населении (около 84 тыс. чел.) территориально просто огромен (268 кв. км.) До 1994 г. на его месте существовали два более компактных района с полноценными административными центрами: Сестрорецкий и Зеленогорский. В моей версии всё вернулось к этому положению. Идею сохранить за каждым городом и посёлком статус отдельного муниципалитета я не поддерживаю, поскольку у большинства из них маленькое население, скромный бюджет и ограниченное влияние на ситуацию «на земле». Даже сегодня администрации маленьких посёлков типа Смолячково находятся в Зеленогорске, что сводит на нет аргументы о близости к гражданам (и является одним из обоснований муниципальной реформы для представителей власти). В то же время в Сестрорецке заседают отдельные муниципальная (МО Сестрорецк) и районная администрации — которые, по уму, стоило бы объединить.
Приморский район является самым большим в городе по населению, четвёртым по площади и крайне разнородным по застройке. Поэтому на его территории я вижу сразу семь новых районов. На юге — Чёрная Речка и Приморский (территория вокруг «Беговой»). Чуть севернее — Озеро Долгое (новостройки в районе Комендантского проспекта), Лахтинский Разлив (Северо-Приморская часть к северу от ж/д) и Комендантский аэродром (в одноимённом историческом районе). Ещё севернее — активно застраиваемая Каменка и малоэтажная часть Коломяг и Шувалово-Озерков. Пригородные территории от Лахты до Лисьего Носа, переданные Приморскому району в 1990-е, воссоединены с Сестрорецким районом (они слишком отличаются от городской застройки и отделены от неё водными преградами).
В отдельные районы (с границей по КАД) выделены Парголово и Левашово. Это сделано как в целях «обозримости», так и с прицелом на уже начавшуюся высотную застройку этих мест. Также из состава Парголова выделено то, что люди обычно имеют в виду под Парнасом — ЖК «Северная долина» и его соседи у метро «Парнас».

Пушкинский район разукрупнён, поскольку об обозримости в его случае не может идти и речи. Более того, некоторые из местных новых районов занимают территорию меньшую, чем нынешние МО. Так, обособлены друг от друга посёлок Шушары с окрестностями и активно развивающаяся Московская Славянка, которые сейчас входят в одно циклопическое МО Шушары. Павловский район в составе Павловска и Тярлево, существовавший до 2005 г., воссоздан с чуть более понятными границами, чем тогда (по ж/д и р. Тызьва) — а Пушкинский район сократился до собственно Пушкина и Александровской.
Красносельский район, также огромный и обладающий очень странными границами, разделён на три части: собственно пригород с Красным Селом (всё, что к югу от ж/д), приморские территории (Новый Юго-Запад) и расположенная между ними Сосновая Поляна (включающая также исторические районы Лигово и Новосергиево).
Петродворцовый район переформатирован в три новых района, соответствующих нынешним МО Петергоф, Стрельна и Ломоносов (последнему потенциально можно заодно вернуть историческое название Ораниенбаум).
Вместо гигантского, рассечённого железными дорогами Колпинского района на карте теперь два более компактных новых района: собственно Колпинский (МО Колпино, Понтонный и Сапёрный) и Ижорский (МО Металлострой, Усть-Ижора и Петро-Славянка).
Расчёты и аналитика
Новая муниципальная карта обеспечивает не только относительно логичные и обозримые границы районов, но и куда более приемлемую численность их населения. Подробные расчёты по новым и старым районам в сравнении можно увидеть здесь. В таблицах приведены численность населения, список нынешних МО, входящих в состав того или иного района, и их количество (для новых районов — зачастую примерное, т. к. территория части МО была разделена).

Для новых районов также даны примечания по расчёту численности населения в каждом конкретном случае. Главной сложностью было то, что разные части одного МО часто оказывались разделены между двумя и более новыми районами. Чтобы измерить численность населения отдельных зон жилой застройки, я использовал расчёты численности населения в рамках участковых избирательных комиссий (УИК), сделанные на основе пропорции общего количества избирателей в УИК, расположенных на территории МО, к численности его населения. Эти расчёты мне любезно предоставил мой уважаемый коллега, главный редактор Telegram-канала «Парламентская нация», за что я выражаю ему огромную благодарность: без его помощи мне пришлось бы опираться на прикидки населения по количеству квартир в ЖК и т. п. ненадёжные методы.
Тем не менее, даже у такого метода подсчёта есть два недостатка. Первый — расчёты основаны на численности населения МО и избирателей в УИК по состоянию на 2021 г., поэтому зачастую я складывал население МО на 2025 г. по данным Росстата с расчётным населением куска соседнего МО на 2021 г. Теоретически, конечно, можно было бы пересчитать данные в соответствии с численностью избирателей в УИК на 2024 г. — но с практической точки зрения это и всё равно было бы не вполне точно, и явно не стоило бы потраченных усилий: численность населения большинства петербургских МО с годами меняется незначительно.
Второй недостаток — то, что в некоторых случаях границы новых районов разрезают на части не только существующие МО, но и УИК. Однако таких случаев на весь город набирается лишь семь, поэтому данной проблемой можно пренебречь — в таких случаях я просто делил расчетное население пополам между двумя новыми районами (при 2-4 тыс. избирателей на УИК это не особенно влияло на итоговую картину).
Итак, если изучить таблицы, можно констатировать, что в новых районах население будет распределено значительно более компактно, чем при существующей системе. В нынешних районах среднее число жителей — 314 тысяч, медианное — 303 тысячи. В новых районах же в среднем будет жить 109 тысяч человек, медиана же составляет 93 тысячи. Другими словами, новые районы по населению в среднем будут примерно в три раза меньше нынешних, но при этом эквивалентны нынешним крупным МО вроде Академического.
С точки зрения территории новые районы также компактнее старых. Я не стал пытаться рассчитывать их площадь, однако уменьшение заметно даже при грубом сравнении количества нынешних МО, входящих в район. В среднем и медианно старый район включает в себя территории 6 МО, новый — 2. На деле в новые районы обычно входят части 3-5 существующих МО, но не все из них входят целиком: я засчитывал, например, половины двух или трети трёх МО за один целый.
Бросается в глаза и то, что самые крупные по населению новые районы значительно меньше, чем крупнейшие из старых. При нынешней системе самый густонаселённый район (Приморский) является домом аж для 714 тысяч петербуржцев. Среди новых районов крупнейшим является район Просвещения с населением, меньшим в два с половиной раза (283 тысячи). Меньше стал и самый маленький район: если сейчас это Кронштадтский, состоящий из одного 44-тысячного Кронштадта, то в новой системе им будет 8-тысячный Морской Фасад. Правда, такая цифра явно является артефактом способа подсчёта (она вычислялась по данным УИК 2021 г.) и не отражает текущую ситуацию в «человейниках» на намыве; в реальности самым скромным по числу жителей районом, скорее всего, являлись бы Морские Ворота с населением в 10 тысяч (которое достоверно известно и уже вряд ли вырастет).
Впрочем, ещё интереснее взглянуть на старые и новые районы в соотношениях. Например, сейчас в пяти крупнейших районах Петербурга (напомню, всего районов 18) проживают 50% его населения. В случае новых районов на топ-5 приходится в два раза меньшая доля населения города (22%). В десяти самых больших районах Северной столицы сейчас сосредоточены 80% ее жителей, а при новом муниципальном устройстве — только 41%. Паритет достигается только при сравнении при 50-му перцентилю, т. е. если мы берём численность населения первой половины старых районов (девять) и первой половины новых (26). Там соотношение составит 75% и 78% соответственно. Только при новом муниципальном делении эта масса людей (более четырех миллионов только по официальным данным) приходится на 26 полноценных районов с дееспособным местным самоуправлением, а при нынешнем — на девять огромных административных единиц без какого-либо представительства и 62 мелких МО без средств и полномочий.

Вместо заключения
Главной целью этой публикации в 2021 г. было начать, наконец, общественную дискуссию о том, каким должно быть местное самоуправление в Петербурге. Тогда это не удалось, однако это не значит, что мои мысли по этому поводу оказались совсем уж бесполезными: во всяком случае, ряд коллег по Telegram (в том числе профессиональных географов, что было особенно приятно) позитивно оценили моё детище. Мне достаточно уже этого, чтобы считать, что мой труд был не напрасен.
Я не сомневаюсь, что у некоторых читателей возникнут вопросы и замечания по поводу того, как я провёл границы новых районов. Это логично и хорошо: один я всё равно не мог всего учесть, а так, возможно, и другие люди включатся в дискуссию, выскажут свои предложения.
В заключение отмечу, что, хоть «муниципальная реформа» по лекалам чиновников Смольного (пока) и не взлетела, этот вопрос нельзя просто выбросить в помойку и забыть. Идея перенарезки муниципальных границ, увы, вызвана объективными проблемами местного самоуправления, которых нельзя избежать при сохранении нынешнего его дизайна, и к ней неизбежно будут возвращаться. Вопрос в том, насколько полезное для горожан решение будет принято по итогу — и насколько они смогут повлиять на принятие решения в свою пользу.
В следующей части этой статьи (надеюсь, заключительной) я попробую поразмышлять о том, каким могло бы быть институциональное устройство петербургских муниципалитетов, в том числе с электоральной точки зрения.