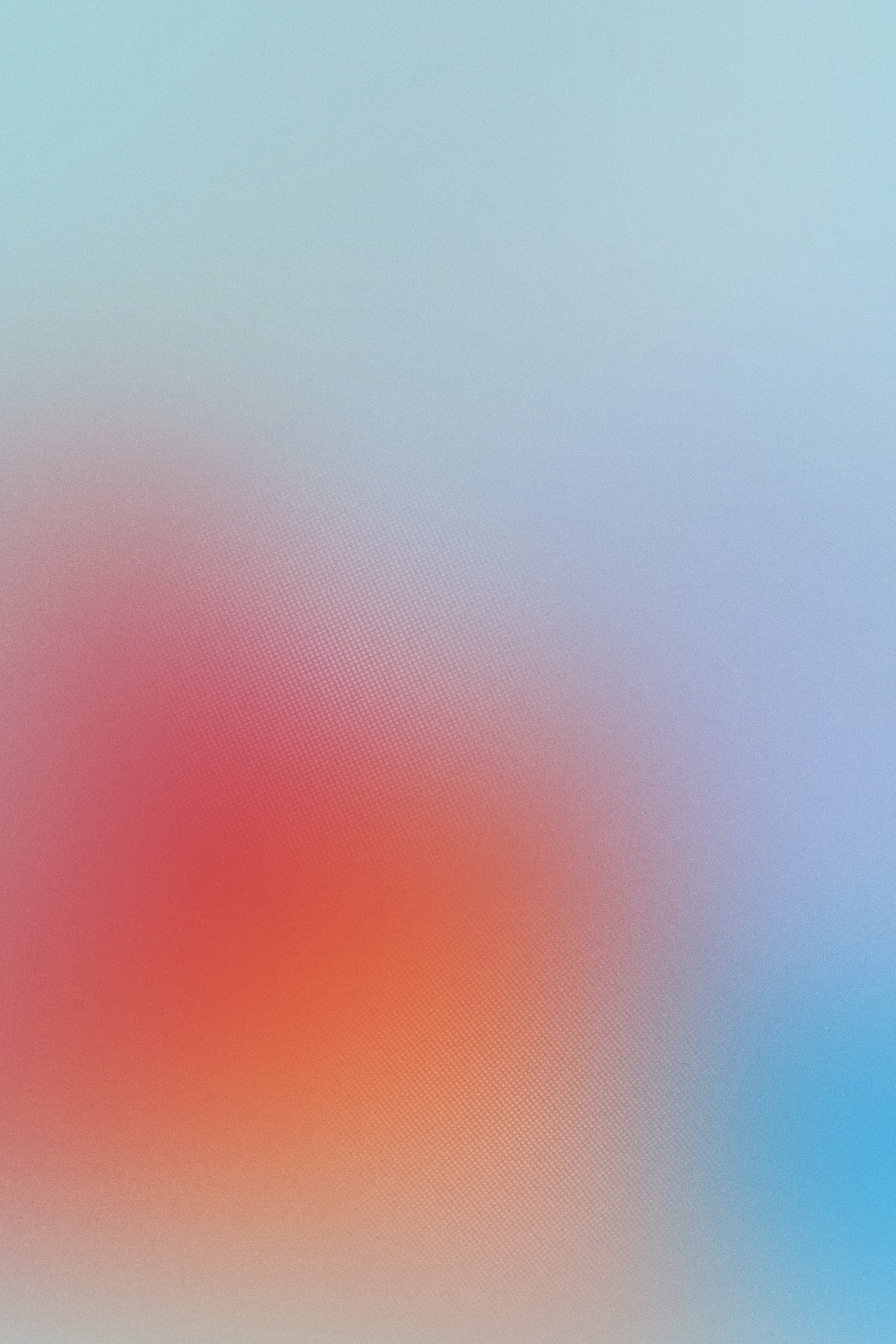Мы привыкли жить в мире, где изменение границ государств военным путём — это преступная агрессия, примета мрачного прошлого, которое закончилось где-то после 1945 г. Да, потом были войны за независимость и войны за объединение наций, были интервенции ради смены режимов, были пограничные и межэтнические конфликты. Однако прямые аннексии или создание марионеточных государств на чужой территории, казалось, стали считаться недопустимыми и начали приводить тех, кто подобное совершает, в ряды изгоев и международных преступников. Во всяком случае, многим так казалось.
Исследователи международных отношений относятся к таким заявлениям более осторожно, хотя и многие из них четверть века назад предполагали, что аннексионистские войны ушли в прошлое. Так, американо-канадский учёный Марк Захер в статье 2001 г. насчитывает в период 1946–2000 гг. 40 «межгосударственных территориальных агрессий», из которых 17 привели к изменению границ (масштабному или не очень). Тем не менее, он подчёркивает, что последнее успешное расширение границ государства произошло в 1976 г. (Марокко объявило Западную Сахару частью своей территории), и в духе времени написания статьи полагает, что «норма территориальной целостности» поддерживается достаточно большим числом государств по всему миру, чтобы сдерживать потенциальных агрессоров [1].
Почти двадцать лет спустя американский исследователь-международник Дэн Альтман [2] приходит к выводу, что завоевание (conquest) территорий никуда не исчезало: из 18 войн между государствами, произошедших в мире с 1976 по 2006 гг., 13 так или иначе были связаны с территориальными вопросами. Он также отмечает, что значительная часть баз данных по территориальным захватам (и проведённых на их основе исследований) не фиксирует три крайне распространённые ситуации: 1) провальные попытки аннексий, 2) аннексии, не получившие признания от международного сообщества, и 3) ненасильственные захваты (nonviolent conquests), т. е. акты присоединения территорий, за которыми не последовало силового противодействия со стороны государства-жертвы. Таким образом, выводы о снижении интенсивности территориальных захватов (и их попыток) основаны на изначально искажённой выборке.
Альтман также отмечает, что после 1945 г. и особенно после 1975 г. изменился характер аннексий. Если в прошлом агрессоры пытались захватить значительные территории или даже государства целиком, то в последние десятилетия нормой стали более «надёжные» варианты: аннексия небольших приграничных территорий, желательно малонаселённых или вовсе необитаемых, не имеющих серьёзных гарнизонов, а в идеале — принадлежащих государству, которое точно не сможет или не захочет оказывать вооружённое сопротивление [3]. Такие быстрые и (почти) бескровные захваты в дипломатии называют fait accompli — «свершившийся факт» (перед которым предполагается поставить мировое сообщество).
За последние три года вы, как и я, вероятно, не раз сталкивались с утверждениями, что присоединение территорий военным путём является в мире после 1945 г. неприемлемым действием, которое влечёт за собой жёсткую реакцию мирового сообщества по отношению к государству, которое такие действия допускает. Отчасти то, что мы наблюдали в последние три года, подтверждает это мнение; тем не менее, есть и очевидные контраргументы. Поэтому я решил проверить, действительно ли подобные ситуации так уж нетипичны для постъялтинского мира и всегда ли государства, взявшиеся самовольно расширять свою территорию, сталкиваются с соответствующими последствиями. А для этого мне понадобилось составить собственную базу данных по таким конфликтам — исключая, понятное дело, нынешний украинский, с которым их предполагается сравнивать.
Что мы будем рассматривать?
Конечно, в мире после 1945 г. произошло огромное количество самых разных военных столкновений между государствами, которые отличаются уже терминами, которыми их описывают: всё же «война» — это не то же самое, что «военный конфликт» или «пограничный конфликт». Более того, одни и те же термины по-разному используются разными исследователями: скажем, некоторые из них относят к «войнам» только конфликты с более чем тысячей погибших — иногда добавляя к этому условие, чтобы они погибли в течение определённого небольшого периода, а не, скажем, за 30 лет пограничных стычек.
Однако меня интересует не интенсивность конфликта, а ряд формальных критериев, позволяющих соотнести его с текущим конфликтом на Украине. Поэтому для попадания в мою базу данных конфликты такого типа (далее я буду для простоты называть их территориальными конфликтами) должны отвечать следующим шести условиям:
- Произойти в период после 1945 г., т. е. после принятия Устава ООН, который запрещает «угрозу силой или её применение» (ст. 2, п. 4) в международных отношениях;
- Произойти между двумя международно признанными государствами. Следовательно, к делу не относятся войны за независимость (в т. ч. колоний от метрополий), а также войны государств против иррегулярных формирований (террористических и др.), если только в них напрямую не участвуют (на стороне этих формирований) вооружённые силы другого государства (не прокси!);
- Не быть результатом мирной демаркации границ и/или референдума, проведённого с согласия обеих сторон, т. е. речь должна идти о присоединении территории против воли государства, которое ей владело, в форме вооружённого конфликта или иного применения силы;
- Не быть конфликтом между двумя (или более) частями одного государства, претендующими на его объединение, даже если обе из них являются международно признанными или частично признанными государствами. В первую очередь это касается азиатских конфликтов, начавшихся в период Холодной войны (Китай и Тайвань, Северная и Южная Корея, Северный и Южный Вьетнам и т. д.);
- Включать в себя действия или, по крайней мере, открыто озвученные до или во время оккупации (или её попытки) намерения одного государства по отторжению территории другого государства — путём присоединения к себе (включая аннексию государства целиком) или создания нового, хотя бы формально независимого государства. Это условие отсекает конфликты, целью которых является смена политического режима или курса одного из государств силами другого, а также оккупация без цели аннексии или создания нового государства;
- В более широком смысле условие № 5 отсекает и пограничные конфликты, поскольку их целью является лишь относительно небольшое изменение границ, зачастую в малонаселённых или ненаселённых местах, а обе стороны априори считают данную территорию своей, зачастую лишь по-разному трактуя одни и те же документы. Понятно, что такое условие трудно формализовать, и всегда есть вероятность разночтений. Далее я буду рассматривать лишь те конфликты, где речь шла о принадлежности территории с явными географическими, административными, культурными и т. д. особенностями (например, архипелага, провинции или региона), разногласия по поводу принадлежности которой нельзя свести к вопросу о соответствии фактической границы международным соглашениям — т. е. я заведомо исключаю из рассмотрения конфликты за пограничную полосу, форпост, остров на пограничной реке и т. п.
По итогу применения вышеперечисленных критериев получается, что с 1945 г. в мире произошли 24 территориальных конфликта:
Отдельно отмечу, что термины «наступающий» и «обороняющийся» не несут здесь каких-либо политических или моральных коннотаций («агрессор и жертва» и т. п.) Речь идёт исключительно о том, войска какого из двух международно признанных государств-участников конфликта на чью территорию первыми начали наступать с целями, изложенными в условиях № 5-6.
Под «полным успехом» наступающей стороны подразумевается ситуация, когда она смогла добиться всех целей, с которыми вступила в территориальный конфликт — будь то присоединение территории или создание на ней нового независимого (хотя бы формально) государства. «Частичный успех» — это ситуация, при которой наступающая сторона смогла достичь своих целей лишь отчасти (например, присоединила не всё, что на что заявляла претензии). Соответственно, «нет» в графе «успех наступающего» — это ситуация, при которой наступающий не смог получить ничего из того, на что претендовал: обычно речь идет о возвращении к довоенным границам.
Нетрудно заметить несколько интересных фактов:
- Наиболее «урожайным» на территориальные конфликты десятилетием были 1970-е — когда, по версии ряда исследователей, войны ради захвата территорий как раз начали затухать. Что ж, это вопрос критериев для отбора случаев. У меня же создаётся впечатление, что как раз в первые десятилетия после Второй Мировой коллективная безопасность и верность букве Устава ООН худо-бедно работали, не позволяя государствам устраивать хотя бы неприкрытые аннексии (не считая ряда случаев, о которых будет сказано ниже) — да и напряжённые отношения между сверхдержавами делали подобные действия слишком рискованными. А вот с 1970-х эти нормы начали расшатываться, дойдя в 1980-е до кровавых конфликтов почти на десятилетие (ирано-иракская война) и нападений на территории постоянных членов Совбеза ООН (Фолклендская война). В 1990-е же, на руинах одного из полюсов двухполярной системы, международное право тем более мало кого интересовало. Некоторое затишье наступает уже в 2000-е, когда произошёл всего один подобный конфликт, да и то с натяжкой (война в Южной Осетии).
- Самой аннексионистской страной постъялтинского мира внезапно оказывается Индия — в шести территориальных конфликтах из 24 наступающей стороной была именно она. И, что интересно, все они завершились для неё полным успехом. (О причинах этого — позже).
- Далее в рейтинге идут пять стран, у которых было по два территориальных конфликта в роли наступающего: Индонезия, Израиль (у обеих оба раза — полный успех), Россия (один раз — полный и один раз — частичный успех), Пакистан (оба раза — частичный успех) и Ирак (оба раза — провал).
- Остальные восемь стран пытались инициировать территориальный конфликт по одному разу, из них полного успеха добились Иран и Турция, частичного — Марокко, Армения и Эритрея, а вот Сомали, Уганда и Аргентина не преуспели.
В следующей части поговорим чуть подробнее о каждом из конфликтов, разбив их по географическому признаку: восемь на Индийском субконтиненте, два в Юго-Восточной Азии, пять на Ближнем Востоке, четыре в (широко понимаемой) Европе, четыре в Африке и один в Латинской Америке.
[1] Zacher, M. W. (2001). The Territorial Integrity Norm: International Boundaries and the Use of Force. International Organization, 55(2), 215-250.
[2] Altman, D. (2020). The Evolution of Territorial Conquest after 1945 and the Limits of the Territorial Integrity Norm. International Organization, 74(3), 490-522.
[3] Altman, D. (2017). By Fait Accompli, Not Coercion: How States Wrest Territory from Their Adversaries. International Studies Quarterly, 61(4), 881-891.