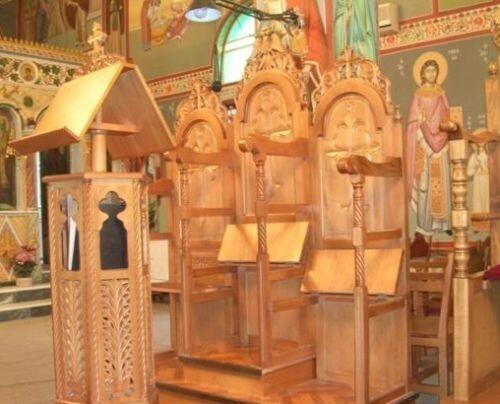О языке священных книг и принципах перевода и исправления
Основной принцип
Сами переводчики в предисловии к Елисаветинской Библии 1751 г. говорят так:
Да будет еще благочестивый читатель известен и о сем, яко превод С: Писания не темижде во всем управляется правилами, киими внешних книг творцев. Поучает нас о сем Иероним С: в послании 101 к Паммахию: Аз, рече, не точию сознаю, но самоизволно исповедую, яко в преводе Гречеких книг творцев, кроме Священнаго Писания, идеже и речений чин таинство есть, не речения речениями (толкую), но разум изображаю. С чего следует, яко должно толкователю С: Писания всеприлежнейше блюсти, во еже бы и целость его, и свойство речений с положением чина их в преводе сохранити. Аще бо слово (указы разумей) царево должни вси подданнии почитати, блюсти, и хранити, ниже пременяя что, ниже прилагая, ниже отъемля, под опасением смертныя казни: кольми паче Слово Божие требует себе таковаго хранения, под опасением не временныя, но вечныя казни, по свидетелству святаго апостола Иоанна, во Откровении его. (лист 13)
И чуть ниже, на обороте:
…в сих стихах разум темный: но нам не леть бе объяснения ради что приложити, боящимся прещения онаго, имже во Второзаконии в главе 4, в стихе 2: и в вышепоказанном Апокалиптическом месте гремит Бог на отъемлющих, или прилагающих что к Слову Его.
Печально то, что создатели одного из новорусских переводов Псалтири говорят, что «опасались буквализмов и прозаизмов». Как мы увидели из слов справщиков (да и интуитивно можно до этого прийти), не подобает ли держаться ближе к подлиннику?
Лексика.
Подход свт. Филарета
Я всецело разделяю подход к делу святителя Филарета, который говорил: «Мне хотелось соединить словенский вид речи с ясностию, потому я иногда переменял порядок слов и немногие слова употреблял несколько новые, вместо более древних, темных или обоюдных для нынешнего понятия» (письмо наместнику Троице-Сергиевой лавры преподобному Антонию (Медведеву) о своей редакции текста Иерусалимского последования чина погребения Божией Матери 28 октября 1846 г.)
Проблема нехватки лексики в славянском и пути её решения
При всей ревности о сохранении славянскаго языка всплывают некоторые нюансы, т. к. опыт показывает, что в классическом славянском языке не хватает слов, чтобы верно передавать греческие: многие славянские слова, которыми принято переводить греческие слова, как выясняется, не вполне им соответствуют, или передают их лишь приближенно или упрощенно. Это ясно показывают лексиконы. Не равную силу имеют греческий и славянский язык, и греческий всё-таки богаче, отчего в славянских переводах встречаются тавтологии. Сергий Наумов в своих курсах говорил, что у славянского языка «мошна большая», он обладает способностью вмещать в себя новые слова…
В документе «Церковнославянский язык в жизни Русской Православной Церкви XXI века» говорится: Раздаются голоса о необходимости привлекать русский язык.
Видится некий средний путь: сохраняя церковнославянский яБуква в духе. Церковно-славянская грамотазык со всей его грамматикой, стилем — духом, — осторожно вводить достойные приемлемые слова из литературнаго языка там, где это нужно в видах верной передачи греческих слов подлинника или обновления крайне устаревших ныне темных и редкоупотребительных слов, или носящих на себе неприятные ассоциации (напр. испражнения в каноне Успения). Плюсом является то, что такие слова хорошо известны и понятны ныне нам.
Может даже обогатить славянский язык новыми грецизмами, или даже пойти на изобретение новых слов путём элементарных приёмов словообразования, но всё в видах верной (и, желательно, доступной для понимания) передачи подлинника.
Это несомненно и требуется — ибо посмотрите на язык, которым переводил свт. Димитрий Ростовский жития святых — в нем очень много слов из литературнаго обиходнаго языка, но в целом господствует дух церковно-славянскаго. Каким языком писали свои письма прп. Паисий Великовский и Василий Поляномерульский, свт. Тихон Задонский…
Идеальным языком для перевода Библии и богослужения является ново-церковно-славянский язык XVIII века с вкраплениями в него по необходимости элементов литературнаго. На такой язык переводились в XVII–XIX веках творения святых отцов и жития святых.
Прочие соображения
- Желательно употребление славянских слов в своем исконном, собственном, этимологическом смысле, чтобы не получалось так, что обычное прямое понимание слова ведет к заблуждению, а для правильнаго понимания нужно искать его 2-й или 3-й смысл. Эта проблема есть в Псалтири.
- В греческих текстах пунктуация иногда вызывает удивление — запятые стоят там, где по грамматическому и логическому смыслу им бы не следовало быть. Возможно, это связано с тем, что многие ирмосы и др. изначально были написаны в стихотворной форме, и запятые ставились в конце каждой строки, а может и просто греки не вполне владеют своим древним языком. В некоторых местах решаемся немного подправить пунктуацию.
Конечно, Слово Божие никогда не может устареть, но некоторые славянские слова устарели. Как могли устареть славянские слова? Славянский язык ещё сравнительно молодой, много дрейфовал. Историк Павел Кузенков приводит где-то такое сравнение, что молодое дерево видно, как растёт, а столетние дубы — они стоят неизменно. Еллиногреческий язык — столетний дуб, он уже давно пережил период формирования, становления, у него период юности завершился задолго до Р.Х. (Подобно и английский язык со средних веков изменялся до неузнаваемости, а древняя латынь оставалась неизменной.)
В греческом подлиннике используются такие слова, смысл которых сам по себе достаточно ясен всякому знакомому с языком. А вот в славянском бывает, что одно слово используется для перевода нескольких греческих, и имеет поэтому несколько значений, причем одно из них более очевидно, лежит на поверхности, а другое — скрыто, и без словаря и толкования не видно. Как оказывается, в некоторых местах Псалтири слова поставлены именно в этом втором, неочевидном значении, что очень затеняет смысл и без того прикровенного языка псалмов. Желательно же, чтобы каждому греческому слову соответствовало такое славянское, которое скорее бы наводило на верный его смысл.
Например, яко несть восклонения в смерти их (Псал. 72). Восклонение имеет очевидное понимание: успокоение, восклонитися — откинуться назад для отдыха, или как в Евангелии — распрямиться. Жена согбенная не могущи восклонитися отнюд. А значение — отрицательный жест, мотание головой в знак отказа — такое значение вторично и неочевидно, и, как кажется, было искусственно придано сему слову, но по толкованиям выходит, что именно оно здесь разумеется. Но не так в греческом, там — ἀνάνευσις, что сразу понимается как отрицание, мотание головой.
То же и с красотой и сладостью.
- Ταλαιπορία страсти. Но может ещё окаянство?
- Проблема, что глагол παρρισιάζομαι (открыто, дерзновенно, уверенно, прямо говорить) переводится у нас устаревшей отрицательной конструкцией не обинуюся (не обинюся, не обинулся есть). Чем заменить это, не знаю. В лат. Переводе Н.З., смотрю, libere loquar — свободно возглаголю. (Еф. В конце)
- Большая проблема с ᾄσομαι και ψαλῶ. В избыточном греческом языке есть два глагола, означающие петь — ᾄδω и ψάλλω. Они передаются одним и тем же словом, и мы ничего не можем сделать. Означало ли в ветхозаветные времена ψάλλω бряцаю? Некоторые слова меняли свое значение со временем (как, например, κωφώς — в Псалтири значащее глухой, а в Евангелии уже немой). В Новом завете и в отеческих писаниях ψάλλω уже точно означает петь, но возможно, более тонко, как бы умом, некоей мысленной псалтирью. В более позднем греческом, в времена Отцов Церкви, песнотворцев и составителей служб ψάλλω стало означать уже и просто петь голосом. Новогреческий перевод понимает ψαλῶ иногда как буду славословить. Евфимий Зигавин говорит, что псалло значит пою с бряцанием, а адо — пою без аккомпанемента.
- В некоторых местах яко исправлено на коль (ὡς), где оно несомненно это значит. Например, Псалмы 7 и 103. Коль чудно имя Твое по всей земли. Коль возвеличишася дела Твоя. Феодорит кое-где об этом ясно говорит: епитатикос, ми параволикос. И в других псалмах то же слово: Коль возлюбленна селения Твоя, коль сладки гортани моему, коль многое множество…
- чуждии. Ударение единообразно чуждИи.
- тма везде заменено на тьма.
- В надписаниях маелеф с маленькой буквы, т. к. не является именем собственным, а значит еже отвещати, как у нас антифонное пение.
Таблица проблемных слов.
ἐξολοθρεύω, передаваемое у нас как — заменено в моей версии Псалтири на истребити с 36-го псалма. Истребити используется и в акафисте ангелу-хранителю, и в акафисте Сергию и Герману Валаамским и в др.
Грамматические формы.
- во многих местах оказалось, что греческие глаголы и причастия будущаго времени переведены у нас настоящим. Пришлось много заменять пою на воспою, ибо ψαλῶ — это несомненно будущее время. И пришлось на многих местах поставить воспою и воспою, ибо нет другого слова для ψαλῶ. Но такие повторения не чужды библейскому и богослужебному языку: в род и род, день дне, паки и паки, Господи мой, Господи… Там, где судити имать. Κρινεῖ может значить и будущее и настоящее и есть подозрение, что во нек. Местах где оно переведено настоящим, должно быть будущее.
- Желательные наклонения переданы частицей да. Есть, правда, вариант передачи желательнаго наклонения, как, например, Прильпни язык мой гортани моему, но такие речения редко получаются удачными, приемлемыми.
- Проблема с прошедшими временами глаголов — перфектом (совершенным) и аористом (неопределенным). Не следует ли в идеале стремиться к тому, чтобы где в подлиннике перфект, там и у нас был перфект, а где аорист, там аорист? Как показывают грамматики, значения перфекта и аориста в греческом и славянском совпадают. Иногда там, где в греческом аорист, у нас стоит перфект (совершенное). Наблюдается, что древние славянские переводчики ставили перфект иногда там, где в подлиннике средний аорист. Но средний залог не придает значения совершенности, а значит только как бы «сделал для себя» или что-то в этом роде.
- Мягкая повелительная форма, выражаемая в греческом не повелительным, а сослагательным аористом, например, μὴ παρασιοπήσῃς (Да не премолчиши от мене), у нас передаётся иногда правильно, но часто и простым повелительным. Везде исправлялось на мягкое повелительное, например, в 50-м псалме: да не отвержеши мене от лица Твоего (μὴ ἀπορρίψῃς).
- Πέποιθα, πεποιθότες, πεποιθώς ἔσομαι
- По поводу двойственнаго числа. Подобает ведать, что в подлиннике не используется двойственное число. Двойственное число следует признать даже в еллиногреческом языке устаревшим, ибо уже ко временам земной жизни Спасителя оно почти вышло из употребления.
- люди и людие. Лаос. Лаи. Людей λαοῦ ед. ч. Людей λαῶν мн. ч. Хотелось бы с увеличенной буквой Е показывать множественное число.
- Предлог ἐν часто не отражен в нашем славянском. Старался его ставить явно (в). Но с ним проблема: он может иметь свое прямое значение (в), а может иметь творительное. Попробуй разсуди.
О состоянии текста славянских преводов священных книг.
О грамматических исправлениях
Много у нас оставлено глаголов на -л без еси (есть), но в славянском такое не допускается, т. к. форма перфекта непременно требует, чтобы после таких глаголов шло есмь, еси, есть или суть. Нужно чтоб был или перфект (например, изволил есть), или аорист (изволи). А поскольку в этих местах в подлиннике почти всегда аорист, то и исправлялось на аорист.
Встречаются слова, где может быть добавлен мягкий знак: свидетелствовати, диаволский и др. Подумать, нужен ли в них мягкий знак.
Пунктуация: Излишние двоеточия, пропущенные знаки вопроса.
Об излишних словах и фразах, оставленных в скобках
Справщики говорят в предисловии к Елисаветинской Библии 1751 г., что излишние по сравнению с подлинником речения они поместили в скобках:
Погрешности же до исправления грамматическаго касающыяся, исправлены на ряду: а излишняя противо Греческих речения, которая ко объяснению разума надлежали, оставлены во вместительных. (лист 26)
Но на деле оставлено больше, чем нужно ко объяснению разума — в нашем славянском переводе Нового Завета присутствует много дополнительных слов, чаще всего малых частиц, союзов и т. п., но иногда и существительные, и даже целые фразы. Откуда они взялись — вопрос. Но как один из принципов перевода — всемерно держаться как можно ближе к подлиннику и не допускать добавочных речений, то решаемся там, где они не требуются для сохранения грамматическаго строя славянской речи, такие вставки убирать.
Ещё одна проблема заключается в том, что в богослужебном Апостоле (и Требнике и др. богослужебных книгах, где приводятся отрывки из Апостола) без нужды взяты в квадратные скобки многие фразы (например, в 2 Кор., гл. 12, где говорится о восхищении ап. Павла до третияго небесе), но они есть в подлиннике и их следует читать. В новых изданиях славянского Апостола (простых, не богослужебных) в таких местах скобок нет.
Лексиконы
Еллиногреческие: Вейсмана А.Д. (1900), Liddell-Scott (1883) и др.
Греко-славянские: Истрин М. третий том хроники Георгия Амартола (1930), «Речник» сербский.
Славянские: А. Дьяченко (1900) и др.
Также новогреческие и английские словари.
Языковые онлайн системы: Orthodic, Perseus, Etymonline.