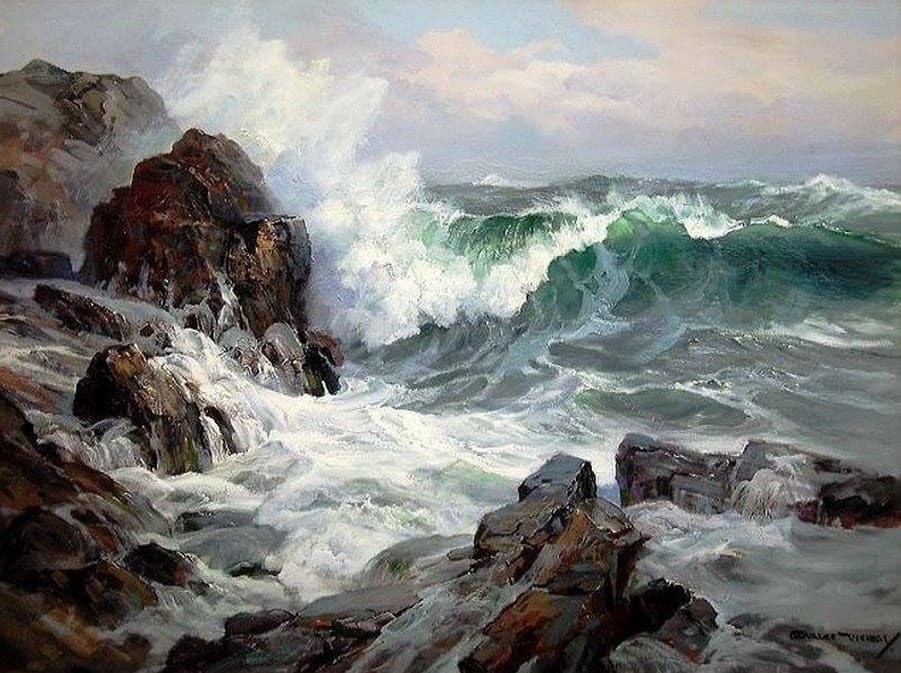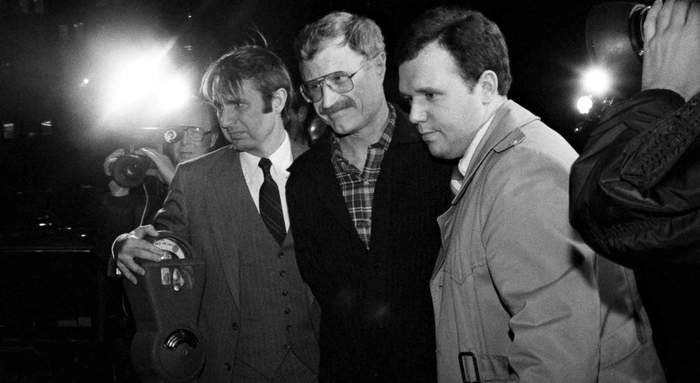Рыцарь и король: как Уильям Маршал не убил Ричарда Львиное Сердце и что из этого вышло
Образ рыцаря из легенд и поэм в комментариях не нуждается. Ассоциации с благородством, отвагой и прочими глубоко положительными качествами большинству людей вбиваются в подкорку с детства. Позднее многие как раз разочаровываются, читая о полупьяных крестоносцах, рыцарях-разбойниках, рыцарях-вымогателях и рыцарях-мародёрах. Но это сословие действительно было соткано из противоречий, и, при всей грубости и жестокости средневековых обычаев, зачастую они демонстрировали совсем иные качества, делавшие рыцарство чем-то гораздо большим, чем сборище удачливых бандитов.
Уильям Маршал был одним из самых прославленных английских рыцарей бурного XII века. Этот незаурядный человек и участвовал в турнирах, и сражался, и демонстрировал лидерские качества, и был недурным управленцем. Он успел послужить нескольким королям, но самым драматичным был переход от Генриха II к его преемнику — Ричарду Львиное Сердце.
Дело в том, что Ричард, прежде чем начать своё недолгое сумбурное правление, воевал против собственного отца, Генриха II. Их борьба затянулась, и, как часто бывало в Средние века, родственные отношения ничуть не мешали использованию холодного оружия.
Для Генриха история кончилась скверно. Ричард, поддержанный королём Франции, одолевал, а Генриха, человека уже далеко не молодого, мучили болезни. Вассалы изменяли один за другим и переходили под знамёна его сына. Уильям Маршал предавать отказался, хотя его дело выглядело всё менее перспективным.
Рыцарь и король: как Уильям Маршал не убил Ричарда Львиное Сердце и что из этого вышло
Образ рыцаря из легенд и поэм в комментариях не нуждается. Ассоциации с благородством, отвагой и прочими глубоко положительными качествами большинству людей вбиваются в подкорку с детства. Позднее многие как раз разочаровываются, читая о полупьяных крестоносцах, рыцарях-разбойниках, рыцарях-вымогателях и рыцарях-мародёрах. Но это сословие действительно было соткано из противоречий, и, при всей грубости и жестокости средневековых обычаев, зачастую они демонстрировали совсем иные качества, делавшие рыцарство чем-то гораздо большим, чем сборище удачливых бандитов.
Уильям Маршал был одним из самых прославленных английских рыцарей бурного XII века. Этот незаурядный человек и участвовал в турнирах, и сражался, и демонстрировал лидерские качества, и был недурным управленцем. Он успел послужить нескольким королям, но самым драматичным был переход от Генриха II к его преемнику — Ричарду Львиное Сердце.
Дело в том, что Ричард, прежде чем начать своё недолгое сумбурное правление, воевал против собственного отца, Генриха II. Их борьба затянулась, и, как часто бывало в Средние века, родственные отношения ничуть не мешали использованию холодного оружия.
Для Генриха история кончилась скверно. Ричард, поддержанный королём Франции, одолевал, а Генриха, человека уже далеко не молодого, мучили болезни. Вассалы изменяли один за другим и переходили под знамёна его сына. Уильям Маршал предавать отказался, хотя его дело выглядело всё менее перспективным.