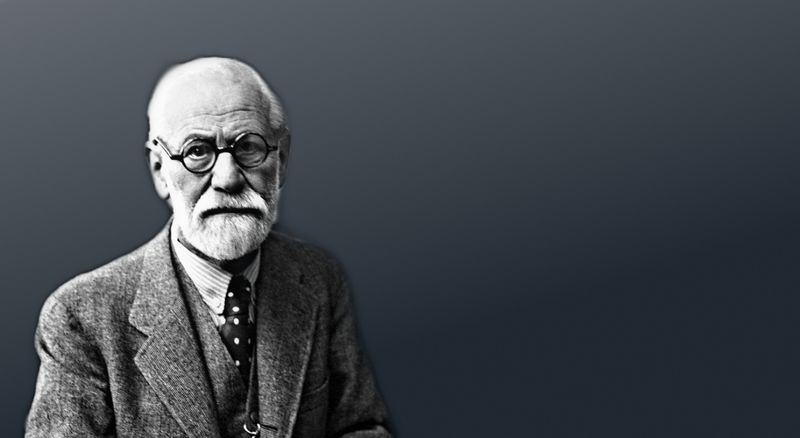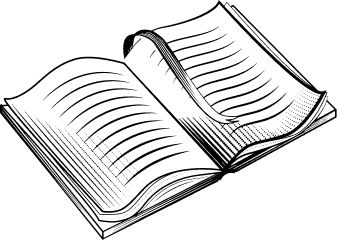Брак, донжуанство и мужская наука: психоанализ субъекта мужской истерии
Предисловие: образы истерии
В наиболее «ламповый» период развития соцсетей по пабликам стала гулять история о завещании Чарли Чаплина, в котором он обещает выплатить миллион долларов родившему мужчине (не трансгендеру). Пикантность или даже некоторую скабрезность этого условия обычно сводят к чувству юмора Чаплина, хотя вполне можно задаться вопросом о мотивах такой «шутки», не торопясь приписывать ей статус полного абсурда — т. е. поступить так же, как аналитики поступают с бредом. Условие Чаплина легко переформулировать в вопрос, отсылающий к детским попыткам провести различия между мужским и женским: может ли мужчина быть матерью? Или: может ли быть матерью кто-то, кроме женщины? Ребёнок, как и психоаналитик, мог бы подойти серьёзно к этому вопросу, тогда как для взрослого субъекта абсурдность понятна заранее, поскольку она извлекается из тавтологической «общеизвестности» того, что мама — это мама, а папа — это папа. Соположение выполняемой функции и пола таким образом может быть достигнуто (и чаще всего достигается) совершенно без понимания того, что эта функция собой представляет (т.е. без понимания того, что в матери собственно «женского», а в отце — «мужского») — иначе говоря, ребёнку приходится довольствоваться готовыми ответами вместо хороших.
По мере взросления этот вопрос может вновь встать в полный рост, когда на очередном жизненном повороте субъект оказывается в ситуации, где ему нужно ответить: готов ли он/она стать отцом/матерью? Или вопрос, зачастую сопутствующий: что означает вступление в брак? Неудивительно, что такие вопросы могут стать поводом для посещения психоаналитика, поскольку они пробуждают казалось бы оставленную в детстве тревогу, связанную с необходимостью для субъекта определить значение происходящего с ним, перед ним и в другом. В этом смысле взрослый невротик оказывается третьим субъектом (вместе с психоаналитиком и ребёнком), вынужденным совершенно серьёзно задаваться вопросами наподобие тех, что подспудно зашиты в условии Чаплина. Психоанализ действительно может кое-что сказать на этот счёт — как минимум, что матерью может быть не только женщина, поскольку её пол может отличаться от того, как устроено её желание. Для определения значения ключевым оказывается не реальное наличие или отсутствие ребёнка у женщины, а то, в каком смысле и в каком статусе этот ребёнок отсутствует или произведён на свет, — т. е. определение вопроса, на который ребёнок является ответом.
Истерический невроз возникает как реакция на слишком ранний сексуальный опыт: субъект сталкивается с тем, что можно вслед за Фрейдом предварительно назвать «первосценой», при этом уточнив, что столкновение происходит не столько с наличием у родителей пола, сексуальности и нехватки, сколько с последствиями этого открытия, указывающими, например, что ребёнок вовсе не является тем, чего от отношений с матерью мог бы хотеть отец. Как правило здесь происходит спутывание двух мыслей: «я — не то, чего хочет отец» и «со мной что-то не так» в манере причинно-следственной связи, как если бы вторая вытекала из первой и полностью через первую объяснялась. В силу путаницы и дальнейшего сгущения означающих этот опыт переживается как «отвратительный, позорный», как нечто невыносимое, от чего ребёнок хочет немедленно отделаться, но не может в силу дезориентации в происходящем. Более привычным возрастом для такого открытия является подростковый период, в котором родители обычно и фиксируют перемену в общении с ребёнком: тогда замечают, что некогда дружные и тёплые отношения вдруг дали необъяснимую трещину, и если раньше ребёнок охотно проводил с ними время, устраивал совместные игры и посвящал в свои тайны, то после «открытия» подросток замыкается в себе, становится нелюдим, избегает и стыдится родительского общества, всё чаще запираясь в своей комнате. Подросток отстраняется, поскольку ему невыносимо находиться рядом с этими «отвратительными существами, предавшими его доверие», что не означает, что его действительно предали, — так переживается открытие сексуальности и невозможности Единства. Однако если это открытие случилось гораздо раньше, чем, как сказал бы Фрейд, «у субъекта успеет сформироваться Эго», то вместо отстранения субъекту как правило приходится выработать необычную форму обращения с открывшимся знанием, в которой будет угадываться стремление преодолеть невыносимость своего открытия и одновременно сохранить для себя «неповреждёнными» либо обоих родителей, либо более любимого из них. «Повреждённость» в данном случае наносит именно знание истерического субъекта о том, что он/она не является объектом отцовских чаяний, — и это определяет всю его суть как живого контейнера для этого знания, которое продолжает наносить субъекту повреждения на протяжении жизни.
Для реализации желания сохранить истерическому субъекту необходимо занять место объекта, который, как ему кажется, мог бы полностью восполнить родительскую нехватку и сделать отца и/или мать «целыми», неповреждёнными, т. е. бесполыми и ни в чём не нуждающимися существами, которые только после этого смогут счастливо жить вместе. Восстановление несуществующей внутрисемейной идиллии в опоре на мифологию «нормальной семьи» становится идеей-фикс для истериков обоих полов в доподростковом периоде и либо никогда не прекращает влиять на их жизнь, либо на некоторое время откладывается в связи с социальной реализацией и воскресает вновь в зрелом возрасте в результате столкновения с теми же эффектами, но на другой территории, — например, при неудаче в любви, которая может заставить вернуться к «великой задаче» по нормализации семьи. Истерическая «миссия» выделяется благодаря своим особым характеристикам — можно заметить мотивы величия, мессианства, самопожертвования во имя блага близких и абсолютную аллергию на сексуальность, в которой субъект-истерик видит причину всех бед в своей жизни (нельзя сказать, что он ошибается полностью). Сексуальное/половое измерение воспринимается как «порча», «загрязнение», «чернота», словно это тягучая флюидообразная субстанция, которая способна перекидываться с одного человека на другого и «заражать» их, делая «испорченными» — и ведь «испорченность» действительно является метафорой сексуально-разгульного поведения человека, не способного сдерживать свои позывы. В этом смысле истерические невротики представляют собой существ особой сексуации или психической организации, которые противопоставляют себя своему полу, взятому на уровне воображаемого, и стремятся как можно меньше ассоциироваться с тем, что принято считать конвенциональной мужественностью или женственностью. Такая «асоциальная» позиция истериков требует от них довольно больших инвестиций в маскировку, т. е. в производство жестов, которые не раскрывали бы окружающим их отличительную позицию, но при этом позволяли претендовать на всё то, что можно назвать «средней судьбой» или «нормальной жизнью». Соответственно, разворачивание истерии будет представлять собой попытку расположить себя под условно стандартными социальными практиками, «притворяться нормой», поскольку измерение нормы и нормальности играет особую роль для этого невроза, вычурным образом соседствуя с собственной уникальной позицией и требованиями особого отношения к себе.
Проведя последние три года за исследованием истерического невроза со своей стороны я могу указать на то, что доступ к материнству (или к тому, что можно назвать «версией материнства») является одним из преобладающих путей развития истерии. Особенно это характерно в случаях «слабой» истеризации, т. е. когда симптомы не развиты настолько, чтобы полностью отвадить истеричку от классических сексуальных отношений. Тогда её желание, направленное на создание экосистемы заботы — об экологии, о животных, об угнетённых меньшинствах, — вполне может избрать таким объектом заботы и детей собственного производства, воспитание которых будет внешне напоминать обращение со святыней. При этом, как я и некоторые другие исследователи неоднократно показывали, это желание не является женским, — напротив, истеричка стремится как можно дальше от генитальной женской перспективы, обретая себя через поддержку мужского желания (говоря точнее, желания падшего реального отца, чья слабость в жизненных притязаниях воспринимается здесь как возвышенное повреждение). В этом случае рождённый ею ребёнок становится ответом на вопрос отцовского желания, как если бы он «восполнял» отцовское бессилие, но не был тем, чего бы она хотела для себя, — поскольку с её стороны такое желание означало бы «становление женщиной», а этого истеричка позволить себе не может. Поэтому в варианте «сильной» истеризации перспектива деторождения, как правило, оказывается закрыта, поскольку такую «грязь» стерпеть невозможно. Слабая истеризация оказывается хорошим подспорьем для развития материнской линии истерического субъекта — она может быть «матерью» на том уровне, который Лакан назвал бы созданием кажимости. Без хорошо настроенной аналитической оптики истерическую заботу практически не отличить от поведения, которое принято приписывать чрезмерно озабоченным потомством матерям, — можно лишь заметить надрывность истерички в отдельных моментах, истина которых (отношение к падшему отцу) всегда будет замалчиваться (запирательство).
Отсюда видно, что роль лакановского Воображаемого в образовании того, что сегодня называется «убеждениями» или «социальной нормой», оказывается превалирующей: субъект может поддерживать образ материнства, но так и не занимать позицию матери в символическом, поскольку такая позиция требует означающего пола, а образ может существовать отдельно за счёт волевых усилий. Аналогично дела обстоят с браком: поддержание образа успешного брачного союза становится ещё одной социальной площадкой для развёртывания истерии — поскольку, как и в материнстве, отличить брак от истерического компаньонства едва ли возможно, пока вам об этом не скажет психоаналитик. Брачные перспективы истерии тоже располагаются на оси попечительства над партнёром, как если бы под пристальной заботой истерического субъекта он медленно «шёл на поправку» и становился лучше. Попечительство над кастрированным желанием партнёра становится основой для связи, которую маскируют под романтические отношения или «брак по любви» (брак по расчёту и прочие обмены материальными благами в истерии неприемлемы). Такого партнёра «доводят до ума», как если бы он был взят под патронаж в связи с дефектностью своего желания и ему требовалось вспомоществование особого рода, на которое не способен никто, кроме субъекта истерии.
И хотя тема брака может преждевременно вызвать ощущение, что речь будет идти об истеричке, здесь я со своей стороны могу указать, что сегодня брак, напротив, гораздо лучше подходит под нужды истерика. В брачной ситуации образуется неразличимость между мужской генитальной фантазией «дарения фаллоса» женщине и облагораживания её с помощью своих усилий (как в мифе о Пигмалионе) и истерическим попечительством над партнёром, которое «не хочет оставлять страдающих наедине с суровой реальностью». Ход этой мысли немало подкрепляется тем, что для истерика угроза деторождения всегда воспринимается как нечто отложенное в неопределённое будущее, которое никогда не наступит, — тогда как для истерички это преследующая её напасть, поджидающая за углом, что и вынуждает её гораздо активнее уклоняться от брака, нежели мужчину-истерика. В его случае брак становится чем-то вроде бесконечной пересадки между двумя одинаково неудобными рейсами, во время которой он может уклоняться от перспектив становления отцом с одной стороны и страха быть уличённым в отсутствии мужественности (из-за отсутствия женщины, которая его мужество удостоверяет) с другой. Такой «брак» служит для истерика на том же уровне «создания кажимости», что и деторождение для истерички: здесь симптомы могут развиваться как бы под сенью общественного одобрения, позволяя уклоняться от истины того, что стремление обзавестись отношениями вызвано необходимостью избавиться от тревоги особого толка, связанной с сексуальностью женщины и своим положением на территории её желания, которое подталкивает истерика к постоянному поиску любовной связи. Эти мотивы до того способны оставаться «слепым пятном», что даже в случае обрывания таких отношений в связи с «недопониманием» или «разными ценностями» у обеих сторон так и не образовывается ясного представления о том, что именно и в какой момент здесь пошло не так, — поскольку различие «ценностей» никак не объясняет различия между желанием истерика и желанием мужчины.
Подойти к этому различию можно через уровень, который Фрейд называет «любовью к проститутке»: мужское желание, как известно, претерпевает расщепление между объектом любви и объектом удовлетворения потребностей, и популярные в литературе и искусстве попытки перекрыть это расщепление связаны с тем, чтобы воспылать любовью к падшей женщине и, вступив с ней в брак, восстановить её положение в обществе. Именно такого рода «возделывание женщины» характерно для мужского желания, поскольку здесь сохраняется ориентация на анальный уровень обмена ценностями и систему рангов и отличий. Однако истерик в этом месте демонстрирует иную траекторию, положением женщины нисколько не интересуясь — его «любовь» направлена на преображение её морального облика, на достижение ею «личностных высот», т. е. в этих отношениях она (по его мнению) должна стать лучше как человек. Сама возможность женщины оказаться «проституированной» для истерика представляет проблему почти экзистенциального статуса, понуждающей его производить характерные жесты, по которым можно узнать его позицию в бессознательном. В его заходе к женщине прочитывается стремление устранить половую характеристику женского, поскольку истерик ведёт речь о некоторых универсальных категориях человеческого совершенствования, на которые направлен его взор, — и в браке ему бы очень хотелось (такова его душеспасительная миссия), чтобы туда начала смотреть и его женщина, иначе (по его мнению) его труды напрасны.
Вопрос, который здесь мог бы поставить как ребёнок, так и психоаналитик, звучит так: а что толкает истерика к этому необычному «овладеванию» женщиной, которое словно нарочно противопоставляет себя мужскому образцу? Какая перспектива открывается ему в фантазиях и оправдывает эту ставку? Если истерик стремится отличаться от мужчины, то как устроена его сексуация и на что он может рассчитывать? На эти и многие другие вопросы я попытаюсь ответить в этом материале. Я буду предполагать, что многие из базовых гипотез фрейдо-лакановского анализа читателю уже либо знакомы, либо читатель имеет возможность ознакомиться с ними самостоятельно, в том числе в других моих работах и работах моих коллег. Здесь и далее я бы хотел расположить наблюдения и теоретические выкладки о мужском субъекте истерии с опорой на психоаналитическое знание и накопленный клинический материал.
Ты идёшь к женщине?..
Лакановский подход к неврозам предполагает прежде всего расположить субъекта по отношению к желанию Другого. При истерическом неврозе субъект ставит себя на место объекта желания Другого и затем стремится аннулировать себя, чтобы таким образом защититься от знания о Его кастрации: истерик «не мешает Другому желать», стремясь слиться с тем, чего Он мог бы желать и таким образом самоустраниться в качестве действующего лица. «Всё происходит по воле Его» — говорит истерик любого пола, обозначая тем самым акт самопожертвования во имя желания Другого, в котором он хотел бы «всего лишь занять небольшое местечко», чтобы от него больше ничего не зависело. Пока Другой желает, истерику «тоже можно», как только Другой испытывает трудности в желании, истерик перестаёт существовать. По этой причине истерики прежде всего заинтересованы в романтических отношениях, — в такой связи они видят открытую перспективу «быть полностью поглощённым Другим», слиться с Его желанием, тем самым полностью устранив сексуальность как измерение различий, не позволяющее Единому сбыться. Поэтому основной вопрос истерии — это вопрос пола: «Я женщина или мужчина?», а основная проблема — это проблема сексуальности в аналитическом смысле, сексуальности как размещении субъекта в системе означающих, которая не позволяет реализоваться слиянию и указывает на непреодолимость кастрации как самого субъекта, так и Другого. Этот уровень является базовым для понимания того, что происходит в истерии, поскольку все нижеописанные симптомы, неудобства, положения и действия будут исходить из того, какую позицию в речи занимает истерик.
Запутанность истерика относительно пола связана с тем, что он не может прочесть у кого находится фаллос — у матери, как объекта мужского желания, или у отца, чей пол истерику не удаётся распознать до конца несмотря на воображаемые и символические атрибуты. Кастрационная тревога побуждает его к скорейшему формированию связи с женщиной, при том что двусмысленность этой связи бросается в глаза сразу, словно истерик одержим женщинами в каком-то особом смысле, пытаясь добыть из отношений с ними нечто мужское. В таких отношениях истерик не оставляет женщину в покое бесконечными попытками «довести до ума», ставя её в безвыходное положение, поскольку он и безудержно предан ей и одновременно слишком недоволен тем, что она «не реализована как личность». Если поскрести эти характерные мотивы превознесения и пренебрежения, то за ними мы найдем одну и ту же операцию истерика, которая напоминает сказанное Фрейдом о «страхе перед женщиной», если не спешить понимать под этим самые буквальные опасения мужчины помещать свой орган во влагалище, — скорее страх влагалища и нежелание заниматься сексом с женщиной будет следствием страха перед женщиной, а точнее, перед измерением, которое можно назвать «проституированностью». «Проституированность» — это любая демонстрация того, что женщине нужен кто-то кроме её отца, т. е. что она тоже кастрирована на уровне желания и имеет нехватку. Обнаружение этой кастрации или материнской неполноты отсылает к открытию первосцены родительской сексуальности и вместе с ней мотива «женского предательства», который можно сформулировать так: «мать настолько неразборчива, что связалась с отцом и позволяет ему делать ЭТО». Эта «неразборчивость» первой женщины вызывает у ребёнка непонимание по какому принципу в её постели оказываются мужчины, и это непонимание далее метафоризируется по формуле «вшитой в женщину дурной злокозненности», на которую часто указывают, говоря о «вредности материнского характера». Чтобы отличить истерика от мужчины, можно сказать так: если мужчина не понимает по какому принципу в постели женщины оказываются мужчины, то истерик не понимает почему они вообще оказываются с ней в одной постели, т. е. почему она имеет нехватку и готова отдавать своё тело другому: сама возможность обнаружить женскую устремлённость и неравнодушие к другому мужчине для истерика оказывается невыносимой.
Можно сказать, что истерик оказывается невообразимо чувствителен к женской эдипальной процедуре, которая, как известно, не имеет образца по типу отца первобытной орды, и если классический мужской субъект считал бы, что женщине недостаёт «настоящего мужчины», т. е. наиболее аутентичного образца мужественности, по отношению к которому женщина могла бы занять место объекта его желания, то истерик пытается поддержать женщину на иных основаниях, которые не имели бы отношения к мужскому фантазму и обходились бы без него. Именно на это он делает ставку, когда пытается объяснить женщине как ей нужно быть самостоятельной или независимой, не продавать своё тело и не ждать от мужчин верности, поскольку они «не умеют ценить женщин», а лишь используют их. Попечительство над женщиной становится стройной и радикальной альтернативой жесту истерички по поддержке отцовского желания, поскольку истерик стремится своим влиянием образовать в женщине то, что посредством отца в частности и мужчин в целом образовано не было, — он делает из неё человека. Истерик не признаёт кастрацию женщины, а любые намёки на её наличие прочитываются как зов о помощи, к которому другие мужчины остаются совершенно безразличны или глухи, словно они не дают женщине то, в чём по мнению истерика она действительно нуждается. Таким образом условия функционирования женского желания воспринимаются истериком как возвышенная трагедия, — по аналогии с истеричкой, которая воспринимает отцовскую кастрацию как возвышенную травму.
Говоря о женском Эдипе можно заметить, что в отличие от мужчины, который в браке ищет замену своей матери, женщина никогда не ищет замену своему отцу: отец незаменим в связи с тем, что она не может идентифицироваться с ним полностью, и поэтому любая женщина обречена на эту нехватку идентификации, а значит и на поведение, которое истериком прочитывается как «проституция». В клинике анализа видно, что именно отец остаётся фигурой, с которой женщине не суждено идентифицироваться полностью, — поэтому для неё он навсегда остаётся кем-то особенным, кого она пытается сохранить для себя в уникальном, никем не понятом качестве, т. е. именно поэтому каждая женщина обречена на истерию в определённом возрасте, выход из которой связан с признанием своей нехватки и поиском мужчины. Так символический порядок налагает ограничения на сексуацию женщины, обрекая её на невосполнимую нехватку в отцовском, не исчерпываемую даже любовной жизнью. Этот драматизм пронизывает всю жизнь женщины, делая её немного неудобным и в целом дезориентированным в символическом пространстве существом, которое мечется между стремлением удержать для себя особое положения отца и при этом восполнить свою нехватку за счёт мужчин, которые никогда отца не заменят. Встреча с Мужчиной — всегда вызов её нереализованной идентификации по отцовской линии, т. е. это всегда необходимость некоторым образом подвинуть отцовское достоинство для того, чтобы освободить место для ещё одного мужчины, с которым будет позволено то, что с отцом не позволено. Неслучайно Ж.-А. Миллер лаконично описал эту ситуацию формулой «женщина встречает мужчину в психозе»: непробиваемая неуступчивость в начале любовных ухаживаний переходит в в захваченность женщины любовной связью с частичной потерей самостоятельности, и связан этот эффект именно с положением отца в её жизни. По этой причине истерик находится в постоянных попытках предотвратить встречу матери/женщины с мужчиной, т. е. хочет пресечь возникающий в этой встрече психотический эффект, который обнажает означающее её пола.
Таким образом проступают ориентиры того, как определяется «приличное» в обществе: сокрытие нехватки, отказ демонстрировать измерение сексуальности оказываются данью, которую нужно платить для поддержания невредимого статуса отцовского объекта. Можно сказать, что «приличная женщина» — это та, кто не показывает нехватку в отцовском, т. е. публично скрывает в своём поведении признаки того, что ей могли чего-то недодать в её собственной семье, скрывает сам факт наличия сексуальности, тем самым подразумевая её в другом месте. Уважение к родителям и браку в целом, которое массово поддерживается даже после собственного неудачного опыта, как раз и связано с фантазией о том, что в браке нет неудобства сексуальности, что родители не имеют сношений, а лишь уважают друг друга и «мирно поживают, добра наживают». Собственно, сокрытию этого неудобства и посвящены многочисленные эвфемизации соития и деторождения, которые щедро сыпятся на голову ребёнку в историях об аисте, капусте и т. д., — что не означает, что «прямой взрослый разговор» на эти темы хоть что-то меняет или разрешает, чего зачастую не понимают многие доброхоты от педагогики. Переоткрытие сексуальности Фрейдом вызвало в публике такую оторопь и негодование только потому, что это «открытие» в рамках своей семейной истории влияет на субъекта именно так, как было описано на примере подростка — ему невыносимо узнать, что у родителей есть пол, а значит и кастрация и нехватка. Открытие пола родителей переживается как падение высших существ с высоты идеала, который ранее был им приписан: единственная «травма», которая может быть у субъекта — это приобретение символического знания о том, что отец — это мужчина, а мать — это женщина, а также вложенных последствий этого знания. И если истеричка в своём поведении постоянно демонстрирует это знание о нехватке реального отца, затычкой которого она и становится, то истерик хорошо ориентируется в нехватке женской, — и не просто ориентируется, а имеет свои виды на это желание, поскольку жаждет предложить себя женщине как затычку её нехватки.
Если женщина в начале ухаживаний может обозначать независимость вплоть до грубости, невольно «торгуясь» сама с собой во внутреннем диалоге, то истеричка в этом стремлении защититься производит забегающий вперёд жест, позволяющий дистанцироваться от женской позиции вообще, и поэтому она не просто груба, а агрессивна и жестока вплоть до того, чтобы уничтожить «посягнувшего» на её отцовскую святыню мужчину. Истеричка — это оператор отцовского желания, отказывающийся от женской сексуации во имя сохранения потаённого отцовского объекта, и она правильно предчувствует, что женская позиция связана с постоянным обозначением нехватки в отце и тем самым попирания его достоинства. Стать женщиной для истерички — значит согласиться стать тем, что никогда не было нужно отцу, а заодно потерять уникальный доступ к территории его желания, которая, похоже, действительно больше никого не интересует в такой агрессивной манере. Современная культура отмены воспроизводит истерическую агрессию к мужчинам через слияние истерички с карающей институцией, — поэтому «отмена» выглядит так, как если бы мужчина посягнул не на женское тело, которое открыто к таким посягательствам через ритуальные ухаживания, а на весталку, святую девственницу, т. е. тело недоступное и освящённое отцовским Законом, словно он позволяет себе перверсивные жесты, недопустимые для мужских субъектов строгой субординации. Здесь рассчитывают не столько на кару, сколько на тяжесть «осуждения толпы»: это перевоспитывающий жест истерички, которой нужен мужчина наказанный не законом, а избитый собственным желанием и готовый к трансформации под её попечительством, т. е. осознавший на этом горьком опыте всю катастрофичность измерения сексуальности и необходимость избавиться от того, что делает мужчину мужчиной. Этот мотив ещё встретится нам и при анализе обращения истерика с матерью и женщиной в третьей главе.
Именно поэтому мы не можем сказать, что истеричка является женщиной, а истерик — мужчиной: их сексуационные позиции основаны на противопоставлении перспективе обретения пола, поскольку пол сделал бы их теми, кто испытывает точно такое же неудобство, как и их родители, обречённые на нехватку и кастрацию. На этом уровне истерический субъект и застревает: истеричка не становится женщиной, не желая обрекать себя испытывать бесконечную нехватку отца, а истерик не становится мужчиной, поскольку не желает быть обреченным на связь с женщиной/матерью, которая испытывает бесконечную нехватку отца. Можно сказать, что истерия — это приостановка половой сексуационной процедуры субъекта и отклонение от неё в сторону становления спутником-затычкой для нехватки Другого, и уже здесь отличия будут сказываться исходя из того, какая половая идентификация была приостановлена. Истерик — это тот, кто навсегда сохраняет возможность стать мужчиной, а истеричка — та, кто в любой момент может стать женщиной, т. е. для этих субъектов сохраняется именно возможность в результате успешного анализа перезапустить процедуру половой идентификации на других началах.
Обозначим, что преследование связи с женщиной, которое истерик нередко сам гордо считает «донжуанством», является следствием его нужды в условиях для своей субъективации, чтобы реализоваться путём предоставления себя в качестве объекта той, у кого по мнению истерика точно есть фаллос. Его донжуанство основывается на двух эффектах: абсолютной убеждённости в своей сексуальной мощи и надеждами на эффекты влюблённости, поскольку она является операцией «выделения» или «изымания» из множества путём выбора одного. Первый мотив следует прочитывать как уверенность истерика в том, что благодаря его усилиям женщина не только поймёт насколько она на самом деле ценна, т. е. прежде всего сама обнаружит у себя фаллос, но и конечно в том, что фаллос будет доступен только ему в счёт компенсации за совершённый подвиг. В мужской истерии эротическое влечение к женщине вызвано особым прочтением её нехватки: истерик убеждён, что «хороший секс» — единственное, о чём женщина по-настоящему мечтает, и в этом смысле он приходит в её жизнь для того, чтобы показать что она мечтает неправильно, поскольку он может дать ей «гораздо больше», особенно если она об этом просила. Именно поэтому его уверенность в своей половой потенции нужно разместить на женской территории — он «делает это для неё», поскольку убеждён, что именно этого ей не хватало в отношениях с «обычными мужчинами», которые «делали это не для неё». Таким образом его половая мощь становится упрёком в сторону отца, который пользуется своим органом неправильно, в то время как истерик предлагает себя в качестве альтернативы мужской чопорности. В этом смысле его потенция ориентируется на женскую нехватку, на территории которой истерик ошибочно считает себя успешно расположенным, — ошибочно, поскольку такое расположение неизбежно приводит к надрывности и различным passage l’act-ам со стороны истерика. Хрупкость этой ориентировки связана с описанной ранее опасностью столкновения с «проституированностью» женщины, т. е. с улавливанием её интереса к другим мужчинам: половая мощь истерика призвана стать затычкой этого интереса, чтобы не допускать проявления этой нехватки с её стороны, которая истериком воспринимается особо драматично, как предательство.
Мотив влюблённости обладает ещё более внушительным значением, поскольку опирается на эффекты самого любовного чувства, а не на субъективные представления: влюблённость способна выделить и извлечь мужчину из мужского братства, что обыгрывается известными шутками о «пропаже товарища», как если бы вместе с женитьбой он переставал существовать для своих друзей в прежнем статусе. Влюблённый мужчина ведёт себя так, словно имеет доступ к секрету, которым ни в коем случае нельзя делиться с товарищами, — тем самым нарушая правила братства, в котором все равны и всем положено поровну. В этом стоит рассмотреть очень сильный аргумент, который поддерживает убеждённость истериков любого пола на протяжении всей жизни в том, что на романтические отношения имеет смысл делать самые большие ставки: в силу реального эффекта влюблённость служит наилучшим социально-приемлемым оправданием того исключенного положения, в котором истерик уже находится, что и позволяет подменять одно другим, как если бы он был исключён из своего пола не в связи с некоторым особым желанием, а в связи с очень сильными чувствами, которые буквально «отрывают» его от остальных и одновременно становятся рационализированным ответом на вопрос о том, почему истерик оказывается изгоем на мужской территории. По этой причине мы обнаруживаем истерика в бесконечном поиске любовных контактов, в которых он никогда не доходит до дела, всякий раз «оказываясь разочарованным» в женщине и используя это для оправдания своего неприкаянного положения, — разочаровывается он, разумеется, при столкновении с тем фактом, что неспособен её нехватку перекрыть. Иначе говоря, здесь он встречается с преградами, которые к любовной жизни уже не имеют никакого отношения, — что в свою очередь и заставляет истериков подозревать в себе некий изъян, «недостаток мужественности», который не позволяет любви случиться. Истерик всегда двумя ногами уже не в мужском братстве, а одной ногой ещё не совсем в отношениях с женщиной, — и в следующей главе я приведу ещё один пример, где встречается альтернатива этому эффекту.
Таким образом стремление истерика обслуживать женскую кастрацию исходит не из мужских позиций, поэтому его рыцарская добродетель сопровождается тем, что можно назвать психической импотенцией, т. е. страхом перед «проституированной» стороной женщины: там, где мужчина вступает в соперничество и противоборство, истерик отступает в страхе и требует от женщины «вести себя прилично». Так стоило бы обращаться с возникающей здесь двусмысленностью, где при абсолютной и зачастую громогласно провозглашаемой уверенности в своей половой мощи истерик проявляет немощь на уровне желания, пасуя перед женщиной на том уровне, где мужской субъект, напротив, вступает в соревнование и обращается с ней как с ещё одним сокровищем. Эту немощь истерик задним числом объясняет через «разочарование» в женщине, при этом оставляя без внимания тот факт, что он каким-то образом успел влюбиться в неё ещё до того, как мог бы хоть что-то о ней узнать. Можно сказать так: истерик хочет быть тем, кому не отказывают женщины, но кто сам женщинам постоянно отказывает, — однако на деле получается наоборот, поскольку именно отказать женщине в чём-либо истерику невыносимо, поскольку производя своё «разочарование» он скорее отказывает себе в женщине, чем ей в себе. Убеждённость в своём эротическом гигантизме может достаточно длительное время поддерживать истерика в воображаемых отношениях с образом, где удовлетворенная им женщина приравнивается к имению фаллоса у самого истерика, однако рано или поздно он обречён заметить свои «проблемы с противоположным полом», расхождение провозглашаемого образа героя-любовника с тем, как на самом деле (не)начинаются его отношения с женщиной. За обнаружением этого расхождения почти всегда стоит истина того, что сколько бы истерик не трудился в постели, обретение собственного «достоинства» остаётся для него такой же недостижимой мечтой, поскольку женщина «не одаривает» его фаллосом, который он в ней взращивает своими усилиями, словно она «не отвечает ему взаимностью на том глубоком уровне, на котором он для неё старается и посвящает всего себя».
Другими словами, в отличие от мужского субъекта, который мог бы использовать такой подход в качестве стратегии соблазнения, именно истерик предлагает женщине видеть в акте сношения некий высший смысл, и оказывается разрушен открытием, что она смотрит на эти вещи иначе, даже если на словах пытается быть взаимной и поддерживать его возвышенный настрой. В связи с обнаружением этой несправедливости мысль истерика, как правило, движется единственным известным ей путём разочарования в своих способностях, — что на самом деле ему просто не удаётся удовлетворить женщину настолько, чтобы она оказала высшую милость, что и приводит к драматичному разрушению уверенности в своей неистощимой потенции, которая всё это время была зависима от женской прихоти. Поэтому сексуальные утехи, несмотря на их сильнейшее педалирование со стороны истерика в качестве своего основного достоинства, на деле оказываются фарсом и прикрытием для более настоятельных бессознательных мотивов нужды в женщине как носителе фаллоса, которая благодаря этому ценна сама по себе и имеет решающее слово. Компаньонство с женщиной формируется через предложение истериком себя в качестве уникального элемента, который она более нигде не встретит, что и должно по его предположению сделать их связь такой особенной, такой неповторимой и ценной, — и именно этим она должна отличаться от связи с «обычным мужичком», который мог бы предложить ей классические «похабные» отношения, в которых нет ничего возвышенного. Под прикрытием возвышенных чувств истерик стремится создать женщине «условия для её изменений» — и по мере приближения к истине того, чем именно он здесь занимается, его «улучшающие» женщину жесты становятся всё отчаяннее, перерастая в полноценное преследование. Как правило оно совершенно безобидно и скорее напоминает странствие или паломничество, однако можно встретить варианты развития этого симптома, которые в редких случаях приводят к более тяжёлым последствиям, — о них я буду говорить в третьей главе.
Любая современная девушка обречена столкнуться с таким персонажем, который своими ухаживаниями будет «захватывать всё личное пространство», словно он хочет «залезть под кожу», «выпить весь воздух», во чтобы то ни стало обзавестись отношениями с ней, — и хотя некоторые видят в этом «признак верной любви», на деле же чаще всего оказывается, что женщина принимает эти ухаживания в формате «оказания милости», т. е. она не отвечает взаимностью, а соглашается приютить беспризорного истерика в своём желании, в том числе в качестве мужа. Соглашается, поскольку это позволяет ей обзавестись отношениями, которые не угрожают святости отцовского объекта, — т. е. она «не предаёт отца», вступая в такие отношения, а занимается благотворительностью, устав наблюдать за мытарствами горе-любовника. В этом смысле тоже можно говорить об «унижении любовной жизни» женщины, поскольку в отличие от мужчины, которому достаточно деления на объект желания и объект любви, женщине приходится производить более сложные операции, постоянно озираясь на святость отцовского объекта и пытаясь распределить удовлетворение между разными мужчинами так, чтобы никто из них не мог исчерпывать собой её нехватку целиком, — таково условие женской позиции в бессознательном в опоре на отцовский объект. Только исходя из этого стоит говорить о женской «фригидности», поскольку женская позиция как таковая предполагает небольшую психическую импотенцию, которая в воображаемом заменяется фантазией о «той самой женщине», бесконечно наслаждающейся своим телом и другими телами. Любая женщина обречена на частичную фригидность настолько, насколько она сохраняет неповторимость отцовского объекта в качестве невозможной для идентификации застывшей либидинозной связи, которая не может быть полностью заменена любовной связью с мужчиной. Измерение сексуального наслаждения в соитии соответственно связано с тем, насколько женщина позволяет «вытереть ноги» об эту священную связь с отцом, — что и указывает на объёмы «проституированности», которые истерику нужно подсчитывать, чтобы оценивать насколько он затыкает собой женскую нехватку. Женщина — это место поражения мужчины, и тот, кто не любит проигрывать, не имеет дела с женщинами, — и поэтому там, где мужчина и не собирается сражаться, демонстрируя отсутствие интереса, истерик воображает победу на поле женского желания, прикручивание к женщине фаллоса как великий подвиг, заслуживающий всеобщего признания. Он «исключительный жених», живая воображаемая победа матери над нехваткой, тогда как истеричка — это живая победа отца.
Тем самым повторяется мотив, известный по фрейдовским исследованиям истерии: стремление обзавестись любовной связью в истерии представляет собой прикрытие для более настоятельных бессознательных мотивов, связанных с необходимостью обойтись с желанием Другого в манере, которая пытается устранить его кастрационное влияние. С этим мотивом связаны часто приводимые анализантами-истериками детские воспоминания, согласно которым они с одной стороны могли испытывать неприязнь к «телячьим нежностям» и противиться материнским ласкам, а с другой испытывали тревожную необходимость «удерживать» мать, т. е. курировать состояние её желания и «замерять температуру» её настроения, чтобы вовремя предпринимать меры для балансировки. В дальнейшем это превращается в стремление влюблять в себя женщин в особой манере, которая нужна истерику для контроля исходящего от них желания: он бы хотел чувствовать себя защищенным от того, что женщина может внезапно ему предъявить. Истерик настолько же нуждается в женщине, насколько напуган колоссальностью её влияния на свою жизнь, — мотив, который должен быть знаком читающей Фрейда аудитории, поскольку он идентичен тому, что обнаруживается в случае маленького Ганса, который в моменты страха приходил к матери, чтобы та купировала его переживания и приносила спокойствие. Мотив борьбы со страхом и роль фобий в жизни истерика будет описан в следующей главе, тогда как сейчас я предлагаю обратить внимание на устройство этой связи с матерью, которая одновременно тяготит и успокаивает истерика, позволяет чувствовать себя живым и заставляет переживать о том, что у матери «слишком много власти».
Такое же соположение ребёнка и матери можно встретить в аналитической теории Дональда Винникотта, который предложил и популяризировал в объект-ориентированном психоанализе технику «холдинга» в качестве «ансамбля материнского внимания», окружающего ребёнка. Винникотт предлагает мыслить холдинг как ключевую операцию объединяющей связи между матерью и ребёнком, которая позволяет матери поглощать исходящую от ребёнка к ней фрустрацию, чтобы затем очищать её и возвращать ему обратно в виде удовлетворения и положительной обратной связи, обучающей его использованию своей психики и фрустрирующей лишь в меру необходимости. Несмотря на некоторую популярность этой техники, особенно среди не-психоаналитиков, её эффективность вызывает вопросы, поскольку добиться того, чтобы мать считала себя «достаточно хорошей» с её помощью скорее не удаётся, т. к. такая попытка купировать тревогу самой матери просто переносит её на этаж повыше, где переживать нужно о том, достаточно ли самой достаточности в этих действиях. Однако можно заметить, что в упомянутом случае маленького Ганса холдингом занят именно ребёнок, а не мать: Ганс стремится к матери не только буквально, но и в своей душевной жизни, пытаясь «окутать» её своей и психикой и выстроить вокруг неё экосистему заботы и поддержки её желания, предлагая себя таким образом в качестве незаменимого элемента её жизни в надежде на особое и постоянное внимание с её стороны, которое защищает его от встречи с означающими его фобии.
Таким образом задолго до теоретических выкладок Винникотта истерик уже занимается холдингом матери (истеричка — холдингом отца), поскольку чувствует, что связь с ней способна защитить его от кастрационной тревоги, той самой, которую маленький Ганс предвосхищал всякий раз, когда ему предлагали выйти на улицу. Такая ценность матери не позволяет обращаться с ней агрессивно и вообще выстраивать отношения на свободных началах: истерик вынужден до предела оберегать её и заботиться о том, чтобы она «никуда не ушла», ни в коем случае не разочаровавшись в нём. Для истерика удерживание матери имеет гораздо более настоятельное измерение, нежели успокоение совести, которое Винникотт в качестве решения предлагал женщинам: в его случае удержание матери является не следствием дрессировки своего Эго к тому, чтобы стать для неё «достаточно хорошим», а вынужденной операцией по сохранению своего Я от кастрационной тревоги, — поскольку холдинг становится операцией, на которой выстраивается Эго истерика, полностью теперь зависящее от материнского расположения/присутствия. В этом ключе нужно рассматривать брак истерика, — как естественное продолжение холдинга женщины любыми средствами, в числе которых обязательно появится и брак как особая форма гарантированной связи, верифицированная отцовским идеалом: истерик вступает в брак для женщины, поскольку улавливает её желающий позыв в эту сторону. И аналогично разочарование истерика на путях обольщения женщин связано с почти неизбежным обнаружением истины того, что она не может «принадлежать ему вся», несмотря на его напор и возможную эротическую выучку, — так или иначе он зарегистрирует с её стороны позыв к кому-то ещё, что будет прочитано исключительно как «предательство» с её стороны, хотя речь может идти о совершенно невинных ситуациях, никак не связанных с её личной симпатией, но точно связанных с её желанием. Остаться без матери равносильно тому, чтобы столкнуться с кастрацией и предстать перед Другим совершенно без защиты (т.е. пережить психотический эпизод), поэтому холдинг абсолютно необходим истерику для выживания, — и он же становится основой для отношений в зрелом возрасте, заменяя собой ту сексуальную динамику любви и агрессии, которая выстраивается между мужчиной и женщиной. Отсюда и возникает рыцарское поведение: истерик не может позволить себе нормальную любовную связь с женщиной, поскольку от её расположения зависит само существование его Я, а это гораздо больше, чем он готов потерять в случае неудачи и утраты её любви. Подробнее об этой утрате и попытках с ней справиться я буду говорить в третьей главе.
В этом смысле винникоттовский холдинг заслуживает самого трезвого подозрения, поскольку предлагаемая здесь концепция выглядит как исполнение сокровенных чаяний маленького Ганса на почве психоаналитической теории: мать, которая пытается окружить его своим вниманием, чтобы в связи с этим чувствовать себя «достаточно хорошей», — это буквально мечта истерика, реализация которой даёт ему призрачные гарантии безопасности и позволяет ослабить собственные усилия по удерживанию матери, поскольку теперь мать управляема представлением, которое до этого истерик всеми силами пытался в неё вдолбить своими увещеваниями. Особенно выпуклым мотив холдинга матери истериком становится в случаях, когда имеет место развод родителей: оставшись без отца (с которым остались свои счёты), истерик оказывается «наедине с матерью» и ощущает большую тревогу в связи с тем, что теперь она «его ответственность». В таких обстоятельствах «дама в беде» буквально сваливается на его голову в качестве той, о ком ему теперь следует заботиться, — и будет видно, что попечительство истерика совершенно не похоже на поведение мужчины, от которого в первую очередь ожидали бы, например, денежного обеспечения. Безусловно, истерик способен подстроиться и под такую ситуацию, в надрывной манере обзаведясь необходимыми способами заработка, однако непреложной истиной останется та речь, которой он будет описывать эту ситуацию: «я прежде всего хотел с ней взаимопонимания, а ей нужны были только деньги». Это указывает на важную характеристику его холдинга: даже будучи в полностью финансово доминирующем положении над женщиной, истерик не будет ощущать никакого превосходства или устроенности, поскольку его представления о наличии у женщины фаллоса и связанные с этим психические операции исключают возможность желать как мужчина, т. е. отделиться от территории женского желания.
Проходящий красной нитью мотив внеполости позволяет в этом месте провести различие между истеричкой и истериком. Хотя оба субъекта истерии стремятся к асексуальности, т. к. полом приходится пожертвовать ради того, чтобы занимать позицию объекта желания Другого, тем не менее можно утверждать, что истеричка способна гораздо радикальнее занять это место, тогда как истерик частично теряет здесь в либидинозных мощностях именно потому, что в его случае больше либидо отводится на сторону объекта его любви, т. е. он не настолько посвящает себя желанию Другого, как она. У истерика в гораздо большей степени к асексуальности стремится объект любви в указанном ранее смысле, т. е. носимый женщиной отцовский объект идентификации должен остаться нетронутым, «незагрязнённым» следами производимых ею половых операций, что означало бы успешное выполнение миссии истерика. С этим пунктом связано столь малое количество внимания к мужской истерии, ассиметричное вниманию к женской: истеричка, как Антигона, гораздо более радикальный и сформированный персонаж, нежели истерик как псевдо-Дон Жуан, и потому мы имеем скромное количество аналитических материалов об этом, но очень много художественной литературы, описывающей злоключения этого возвышенного героя. Таким образом стремление истерика «владеть женщиной» имеет совершенно несвойственный для обольстителя мотив: нацеливаясь на женщину, истерик стремится извлечь из обращения с ней нечто мужское, своего рода «указания на отцовскую мудрость», способные дать ему опору в желании и купировать кастрационную тревогу, а точнее — проход к тому измерению, которое аналитик А. Смулянский удачно назвал «мужской наукой». Под такой наукой следует понимать заботу мужского субъекта о том, чтобы занимать позицию, при которой он сможет калибровать свои душевные устремления по координатам умеренности и достаточности, чтобы «не терять голову» и «сохранять лицо». Вокруг мужской науки истерик наворачивает круги, с одной стороны питая страстные надежды заполучить к ней доступ, а с другой прилагая колоссальные усилия, чтобы эти страстные надежды скрыть, т. е. не быть распознанным в качестве того, кто по неясным причинам оказался с этой наукой не в ладах.
Если истеричка полностью уверена, что может любому преподать умение держать лицо, поскольку она располагается на территории отцовского желания, то истерик, напротив, патологически не уверен в том, что его усилий достаточно, чтобы одним своим видом производить впечатление представителя мужской науки. Есть и то, что объединяет субъектов истерии в этом пункте — результатом их усилий всегда оказывается неуверенность в том, что дело сделано, т. е. что удалось достичь определённого рубежа и это достижение «закреплено», верифицировано. Здесь не могут провести черту, которая означала бы достаточность приложенных усилий для заполучения права претендовать на желаемое: истерика в последний момент сковывает страх и ему приходится отступить, дабы не выдать, что всё это время от мужской науки он был далёк, а в случае истерички изначальный запал самоуверенности сменяется полным смятением и не пониманием произошло ли событие, от которого зависит успех, или нет. В отличие от истерички, истерик не уверен перманентно — это доступно ему в качестве переживания, — однако, сопротивляясь тому, чтобы быть обнаруженным в этом статусе, он вынужден прилагать достаточно большие душевные усилия, чтобы через жесты демонстративного характера вести себя «как тот, кто был бы уверен на этом месте», или, говоря лакановским языком, производить acting out. У истерика сохраняется стремление производить впечатление, красоваться (т.е. ориентация на образ, а не на значение), и это красование имеет целью сделать себя привлекательным для женщины, но не так, как привлекателен мужчина. Это «красование» более подробно будет раскрыто в четвёртой главе, а пока я предлагаю перейти к мотиву сковывающего страха, который в психическом развитии истерика занимает важное место.
Фобия и гомосексуальное сопротивление
Я начал с развития наблюдения, согласно которому истерик вынужден вступать в связь с женщиной через особым образом устроенное прикрепление к её желанию, приводящее к амбивалентному отношению к ней, при котором он возносит женщину на пьедестал своих чаяний и одновременно противится чему-то в ней в перевоспитывающей манере, пытаясь вылепить из неё полноценное существо с фаллосом. Это возделывание женщины представляет собой своего рода «подвиг», который она и все окружающие должны оценить самым восторженным образом, — так выглядит способ истерика претендовать на признание, а значит эту позицию будут отстаивать до конца и направленный на её расшатывание анализ приведёт в непродуктивный тупик. Культурный аналог этого стремления совершать подвиги для женщины — рыцарское странствие во имя прекрасной дамы, в котором аналитики достаточно быстро заподозрили скрытую психическую импотенцию. Оптика анализа показывает, что рыцарю важно всегда находиться в странствиях единственно для того, чтобы не приближаться к постели своей дамы сердца, поскольку там он рискует обнаружить реальную женщину, которая сильно отличается от той, кого он всё это время воспевал в виршах, — а это в свою очередь скажется на его способности с ней возлечь. Здесь находится самый невыносимый пункт его тревоги — узнать, что за демонстративным стремлением «пожертвовать всем ради любимой» скрывается нечто вроде «недостатка мужественности», страх оказаться без женщины наедине с миром и неспособность предъявить орган и воспользоваться им без проделывания особых ритуалов. Поэтому странствующий рыцарь, как и истеричка, красуется, но никогда не переходит к делу (точнее: красуется, чтобы не переходить к делу), — и так оказывается в непосредственной близости к позиции «невесты Другого», через которую Лакан определяет истерию. Здесь важно помнить, что в статусе «невесты» главное не пол, а гарантированная признанность особого толка, — признанность в качестве объекта желания Другого, объекта, которым истерик всеми силами стремится не стать.
Итак, за опорой для своего желания истерик избирает женщину (в том числе женщину-аналитика), которая по его мнению обладает фаллосом, однако на деле эта опора представляет собой настолько хрупкое и вечно ускользающее от истерика образование, что без постоянного холдинга женщины сама суть его существа оказывается под угрозой, — холдинга, связанного с предотвращением её обращения на мужскую территорию, словно истерик пытается «забетонировать» дыру в женском желании, которая может в любой момент обнажить нехватку другого мужчины. В ходе развёртывания этой ситуации истерик всё глубже убеждается в отсутствии фаллоса у себя и невозможности его заполучить в своих глубоких отношениях с матерью, что ставит его в очень неудобное положение на том уровне, где предъявляются требования к полу. Будучи по крайней мере на уровне воображаемого пола мужчиной истерик так или иначе обнаруживает своё отличие от других мужчин, с одной стороны испытывая пренебрежение к невзыскательности их позиции, а с другой — завидуя тому, что эта позиция по крайней мере кажется более устойчивой, не страдающей от тех неудобств, с которыми он вынужден постоянно иметь дело на материнской стороне. Если истеричка стремится стать объектом желания Другого, то истерик в этом вопросе демонстрирует надрывное сопротивление, стремясь ни в коем случае не стать «невестой» Другого, всем своим видом показывая незаинтересованность и непричастность к тому, чтобы оказаться в позиции объекта наслаждения на мужской территории, т. е. в позиции пассивно-гомосексуальной. Этот мотив требует осторожного и внятного раскрытия, поскольку он является несущим в психической конструкции истерика, определяя большинство его симптомов и способы самостоятельной борьбы с ними, которые и могут в итоге (не)привести его в анализ.
Если к истеричке на мужской стороне относятся относительно терпимо, чаще всего просто стараясь мягко отодвинуть её в сторону, то для истерика всё выглядит так, словно ему в мужском братстве предлагается только позиция униженного в связи с «отсутствием мужественности». Опытным путём истерик достаточно быстро определяет, что на мужской стороне «ему не рады» так, как ему могут быть рады женщины, но причины этого негостеприимного отношения могут оставаться для него слепым пятном на протяжении всей жизни, несмотря на обилие самостоятельных интерпретаций и рационализаций, которые он ежедневно щедро производит для успокоения себя. Попытки вступить на мужскую территорию пресекаются как самим истериком, так и окружающими его товарищами, которые могут подметить его необычную ориентацию в пространстве: истерик демонстративно пренебрегает организующим мужское братство наслаждением. Абсолютно точно можно сказать, что на мужской территории не ценится возвышенный настрой истерика, — по крайней мере, мужское братство не способно на уровне идеологии солидаризироваться с тем, чтобы вписать истерические увещевания о прекрасном в качестве чего-то своего, что могло бы быть поделено между его членами открыто. Кроме того, истерик и не собирается делиться своей святыней с другими, — что достаточно хорошо считывается в образе его желания на уровне постоянно демонстрируемой «романтической отстранённости» и его пренебрежения к миру мужских сокровищ, которые добываются соревновательным путём, в то время как истерику жизненно важно не иметь никаких соперников, поскольку его «миссия» изначально предполагает дар наслаждения только поражённому в желании отцу.
Поэтому стерик прочитывает анальный уровень взаимодействия между членами мужского братства как «мир, в котором ему нет места», поскольку он ничего не предлагает и ничего не собирается у них брать, т. к. не может определить есть у них фаллос или нет, а даже если и есть, то способ его получения выглядит для истерика перспективой совершенно невозможной или безынтересной. Если по отношению к женщинам он уже знает какое место ему следует занять, то мужская территория остаётся для него совершенно неосвоенной и полной внезапных опасностей, что вызывает к жизни бесконечные acting out-ы, необходимость разыгрывать определённый вид перед мужским братством в надежде на маскировку. Здесь можно вспомнить пример acting out-а гомосексуальной пациентки Фрейда, которая гуляет по улице со своей возлюбленной дамой в тех местах, где обычно бывал её отец, — и его неодобрительный взгляд становится тем, что запускает passage l’act истерички, заставляя её броситься с моста, т. е. сойти со сцены. Если истеричка ищет отцовский взгляд, то истерик, напротив, пытается избежать этого раздражённого взгляда и вовсе не показываться там, где он мог бы его встретить, — т. е. не показываться в мужском сообществе как таковом, предпочитая женскую компанию. Ему удаётся догадаться, что для реального отца его возвышенный настрой представляется чем-то таким, чего «не надо бы», по аналогии с тем, как реальный отец реагирует на попытки истерички переодеться в мужчину или преподать окружающим «урок правильного поведения»: он осаживает, и это отцовское осаживание ввергает в смятение истериков, поскольку с их стороны всегда предполагается, что в эти моменты они стараются как раз для отца, который должен оценить их настрой. Здесь ещё нагляднее видно ключевое отличие истерика от истерички: там, где она упорно продолжает подставлять себя под разочарованный взгляд отца, стремясь в итоге добиться от него одобрения, истерик реагирует паническим бегством, показывая, что он готов на что угодно, лишь бы не застать на себе отцовский взгляд, разочарованность которого прочитывается истериком (как и все прочие мотивы) на уровне сексуальности, т. е. как «разочарованность в нём как в мужчине» — мотив отцовских очков и узора на морде лошади из случая маленького Ганса. Истеричка прочитывает разочарованность отца как указание на то, что в ней «ещё слишком много женского», т. е. как требование вести себя ещё более сдержанно и стать ещё меньше похожей на мать, чтобы отцовский гнев сменился милостью. Истерик, испытывающий ту же нужду, реагирует противоположным образом и пытается найти прибежище под юбкой материнского желания, чтобы никогда больше не встречаться с отцовским взглядом и попытаться реализоваться без обращения к нему в частности и к мужской территории в целом, но при этом постоянно вновь и вновь перед ним предстаёт, поскольку его изначальный запал связан с ориентировкой на отцовское желание. Связано это различие с тем, что возвышенный истерика совершенно не соответствует той перспективе обретения пола, которая предполагается мужской сексуационной процедурой, проходящей через усвоение отцовского отказа в наслаждении, — и поэтому встреча с отказом на уровне отцовского взгляда вынуждает истерика сопротивляться в опоре на свою особую позицию признанности, предполагающую, что его возвышенный настрой имеет гораздо больший потенциал для реализации, чем «слепое следование указаниям отца», которые приведут истерика на путь повторения «бессмысленной» судьбы кастрированного отцовского желания.
Представления истерика о прекрасном просто не могут разделяться реальным отцом, несмотря на то, что они им вдохновлены, — это указывает на то, что истерика не ждёт ничего хорошего, если он попытается вовлечь отца в свои представления, поскольку в лучшем случае отец продемонстрирует оскорбительное невежество, а в худшем — окажется раздражён и попытается нанести педагогическое оскорбление с целью указать, что истерик свернул не туда. Таким образом разочарованный отцовский взглядом прочитывается истериком не как часть сексуационной процедуры, не как отцовский «пас», который ему имеет смысл усвоить и воспроизводить, а как отказ от наслаждения, которое истерик жаждал отцу предоставить, связанный с тем, что с истериком «что-то не так», т. е. что он неправильно это наслаждение предложил или что отец неудовлетворён его предложением. В связи с этим ситуация выстраивается таким образом, что в отличие от истерички у истерика не остаётся никакой возможности претендовать на отцовскую милость, т. е. его позиция не предполагает упорства в том, чтобы выслужиться перед отцом и добиться «хороших отношений» с ним, — вместо этого он прочитывает отцовский отказ, следование которому должно было бы сделать из него мужчину, как попытку отца удовлетвориться истериком, который здесь «выложил всю душу». Следовать отцовской педагогике истерик отказывается в связи с описанным в первой главе ранним обнаружением его пола и того факта, что отцовская судьба выглядит как лишённое смысла мероприятие, в котором не следует принимать участие. Истерик не принимает отцовский отказ, вместо этого интерпретируя его в привычной для себя манере сексуального подтекста, как если бы отец «хотел воспользоваться» его нежным настроем, надругаться и использовать его для своего удовлетворения в вульгарном смысле. В действительности, как мы знаем, отцовский отказ при всём желании не несёт в себе черт его личного удовлетворения: это вынужденный жест, к которому предпосылает реального отца сама матримониальная перспектива, однако этот акцент остаётся совершенно не востребован со стороны истерика, убеждённого в сексуальном (не эротическом) подтексте отцовского жестокосердия. Такое прочтение вынуждает истерика к самостоятельному «изгнанию с мужской территории», поскольку он находит невозможным реализовать в этих условиях свои возвышенные чаяния: тот, ради кого всё затевалось, отказал ему в милости. Этот способ прочтения желания Другого является истерическим по существу: Другому не хватает наслаждения, поэтому истерик видит себя тем единственным, кто должен это наслаждение воздать в обстановке полной секретности, коррупционным путём передать отцу то, чего тому, по мнению истерика, не хватает для реализации полноценности.
Вследствие этого (само)изгнания, несмотря на возможную зависть к атмосфере мужского братства, истерик сопротивляется тому, чтобы быть распознанным в качестве страдающего от недостатка мужественности и нуждающегося во взгляде другого мужчины, — поскольку это означало бы опасность встречи с отцовским неодобрительный взглядом, за которым неизбежно следует passage l’act. Соответственно, это делает невозможным классическое разрешение ситуации «недостатка мужественности» через обращение к наставнику, поскольку истерик не может рассчитывать на понимание другого мужчины, предъявляя ему свои представления о прекрасном. Именно здесь мотив исключающей из мужского множества влюблённости в женщину приобретает своё главенствующее значение: истерика пугает перспектива «быть использованным» другим мужчиной для удовлетворения, поэтому во избежание столь неприятного для него опыта (которого у него нет и никогда не было, но который на символическом уровне присутствует как однозначная перспектива) он вынужден искать желаемый доступ к мужской науке путём изобретения крайне сложных окольных схем, назначение которых — сокрытие этой нехватки и стремление восприниматься «превосходящим», «доминирующим» за счёт нахождения на особом счету у женщины, что для истерика означает воображаемую победу над отцовским пренебрежением, поскольку отец на этой территории терпит поражение. Несмотря на усилия по созданию образа, неравенство с другими мужчинами сохраняется, поскольку жесты истерика носят защитно-маскировочный характер и не могут разрешить сложившиеся противоречия (по крайней мере, не могут без вмешательства аналитика). Неуверенность истерика и постоянное метание в попытках «не стать невестой Другого» может отпугивать его от прохождения личного анализа, однако делает его частым наблюдателем за аналитической сценой, — он нередко «подглядывает» за аналитиками и изучает их материалы, пытаясь извлечь для себя всё необходимое без обозначения прямой заинтересованности и личного присутствия.
Нужно понимать, что описанная выше динамика отношений с отцовским представляет собой содержание бессознательного истерика и почти никогда не артикулируется им буквально в таком виде, — это вытесненный материал, полученный путём аналитической реконструкции. Самостоятельное объяснение этих мотивов у истерика тоже есть, более того, он без устали выдаёт себе такие объяснения, которые в большинстве случаев звучат так: «должно быть мне не хватает мужественности и поэтому у меня проблемы с ориентацией». И до своего анализа и в процессе истерик нередко с неестественной решимостью выражает горячее стремление признать свою латентность, би- или гомосексуальность, хотя никакого сексуального влечения к объектам своего пола в его случае невозможно обнаружить, — объектом влечения истерика остаётся женщина в описанном ранее смысле, тогда как объектом высшей нереализованной любви остаётся отец. Более того, срок годности таких каминг-аутов может быть настолько скромен, что чуть ли не на следующий сеанс истерик уже приходит влюблённым в новую девушку, и всё «открытое» ранее оказывается неактуальным, что не даёт заподозрить в такой динамике подавление или вытеснение. Здесь удобно провести различие между женщиной и гомосексуалом, поскольку эти позиции часто сращивают между собой, заходя со стороны мужского фантазма. Производящая операцию проституированности женщина «роняет отца», чтобы продемонстрировать мужчине насколько он для неё любимее, тогда как гомосексуал, напротив, любит другого мужчину любовью, которой любила его мать, отсылающей не к пренебрежению отцом и попыткой его подвинуть, а к позыву женской нежности, который ранее оказался невыносим. Различие женщины и гомосексуала имеет смысл, поскольку для истерика эти два персонажа точно различны, т. е. он не станет производить аналогичные операции с нехваткой по отношению к гомосексуалу, пытаясь для него стать затычкой в манере, в которой он это делает с матерью, — скорее он сможет «соседствовать» с гомосексуалом, поскольку такое добрососедство исключает угрозу столкновения с отцовским отказом и основанный на принятии этого отказа шовинизм мужского братства.
«Любовь к мальчикам», которую мы находим в лакановском комментарии на случай Андре Жида, как влюблённость в обласканного женщиной мальчика, которым когда-то отказался быть сам Жид, для истерика совершенно неизвестна: в отличие от перверта, истерик не любит как мать, а желает через мать, поскольку подозревает у неё наличие фаллоса и видит в этом возможность «выиграть всё» от обладания ей через предложение себя в качестве объекта. Говорить о подавленной гомосексуальности в случае мужской истерии было бы проявлением наивной поспешности, поскольку это бы означало, что истерик совершенно не ошибается в своих панических выводах и видит ситуацию без слепых зон, т. е. является субъектом безупречной прозорливости, — что, возможно, косвенным образом даже подыграло бы его таящему на глазах самолюбию, если бы нашёлся специалист, который стал бы мирить истерика с его «гомосексуальной стороной» (а многих специалистов хлебом не корми, только дай подружить субъекта со своими демонами). Вообще психоаналитикам в самом ближайшем будущем предстоит столкнуться с плодами «вменения ориентации» таким субъектам со стороны психологов и терапевтов, которые зачастую оказываются непростительно доверчивы к тому, чтобы интерпретировать очевидное смятение истерика в этом пункте как сигнал скрытой латентности, подавленный запрос на дозволение «быть собой», — на что жаждущий исцелять специалист почти молниеносно реагирует в самой добрососедской манере, начиная активно освобождать субъекта от «оков подавления» и раскрывать тому прелести бытия «особенным человеком» (или «нормальным», если в заданном политическом контексте гомосексуальное стремятся нормализовать).
Поэтому не следует доверять объяснению, которое истерик охотно выдаёт сам себе и считать, что он втайне жаждет быть гомосексуально использован Другим для удовлетворения, — такое объяснение является уже следствием истерического прочтения отцовского отказа. В истерии реальному отцу не хватает наслаждения, — и истерик продемонстрировал готовность эту нехватку восполнить, однако столкнулся с отцовским отказом и тем самым обнаружил неприемлемым как свой возвышенный настрой, так и свою позицию по отношению к отцу, что и вынуждает его бежать к женщине. Отсюда и возникает страх «быть использованным» или «быть избитым», почти животный ужас, охватывающий истерика в тех случаях, если ему приходится говорить о мужском сообществе, которое представляется ему чем-то вроде «сборища шовинистических свиней», поскольку они не могут оценить его утончённый вкус к прекрасному. Страхи истерика оказаться геем/быть использованным/быть избитым требуют прежде всего внятного аналитического прояснения, поскольку всё это метафоры стремления «не стать невестой Другого». Природа такого сопротивления исходит из того, каким образом истерик располагает себя по отношению к деформированному отцовскому желанию: если истеричка занимает позицию неутомимой поддержки желания отца (которое без поддержки по её мнению рухнет), то истерик, напротив, принципиально пытается отделаться от всего, что несёт в себе отцовские черты, при этом на пределе своих чаяний всегда стремясь вернуться на мужскую территорию «прекрасным лебедем», от которого отец не откажется. Истеричка перевоспитывает мужчин и пытается показать отцу (параллельно показать и матери) как он мог бы быть «целым», тогда как истерик в своих жестах 1) прежде всего ориентирован на мать и 2) показывает не то, как мужчиной надо быть, а предлагает себя как «альтернативу отцу на неясных основаниях». В его позиции не обнаружить узнаваемые за истеричкой серьёзность и холодность, но напротив, можно наблюдать неустанные попытки «понизить градус» происходящего через дурашливый юмор и указания на собственное не вполне мужское уязвлённое положение, словно он хочет убедить окружающих, что его «не надо бояться», что он здесь «только для того, чтобы всем стало хорошо» — другими словами, что он точно никому не откажет, не сделает того, что обычно делает реальный отец.
Итак, гомосексуальное сопротивление обретает свой смысл в русле попыток истерика отделаться от мужского/отцовского на символическом уровне, как подвид операции с я-идеалом отца, при котором истерик демонстрирует, что отцовское ему не нужно и никакого отношения к отцу он не имеет, тем самым скрывая описанную выше драму, — вследствие этого он и оказывается на материнской стороне, ища способы дополучить от неё то, что он не смог выудить из отца, т. е. разглядеть в её желании отцовские черты и затем «желать как мать». Теперь это выглядит даже логичным жестом, поскольку если мать когда-то была или остаётся тем, чего желал отец, то «желать как она» — значит попытаться узнать проходы к отцу, в которых истерик бы не встретился с отказом и одновременно выудить из этого желания то, что позволяет быть символически недоступным для отца, справляться с его взглядом. «Желать как отец» истерик не может, поскольку 1) преждевременное бегство от отцовского взгляда не позволяет перенять и усвоить отказ и 2) истерик в таком желании не видит ничего, к чему можно было бы стремиться ради нахождения возле женщины, — и уже затем, задним числом объясняет это тем, что обычный мужчина «не ценит женщин», не раскрывает их потенциала и просто использует их как сексуальную игрушку. Эти мотивы очень легко спутать с классическим эдипальным соперничеством за мать, поскольку ненависть к отцу и сопутствующий страх его возможного грубого вмешательства могут буквально выглядеть и прочитываться окружающими как немного странный, но всё же ожидаемый конфликт двух мужчин. Различие заключается в том, что это именно сопротивление, а не борьба или соревнование: истерик никогда не входит в конфронтацию с отцом как с соперником мужского пола, вместо этого действуя через «женское коварство» и выставляя отца в неприглядном свете, словно пытается тайно уколоть его за то, что тот не оценил возвышенный истерический настрой. Ressentiment истерика находит отражение в неочевидных тонких жестах и намёках, адресованных женской части семейства, вроде прерывания семейных традиций или особого рода попечительства над отцом в форме микроагрессии, поучения или бессильного осуждения. Другими словами, эти жесты происходят «при полной тишине», т. е. они не афишируемые и не скандальные, но оттого не менее демонстративные, т. к. прочтение этого сообщения должно произойти на женской стороне. Нередко истерик избирает полем соперничества с отцом область интеллектуального признания, где соревновательный элемент не связан с «мужественностью», недостаток которой будет сказываться в более классических мужских областях, требующих владения мужской наукой. Однако несмотря на свои постоянные интеллектуальные победы над отцом, которые можно расположить в воображаемом регистре, истерик не приходит к успеху, поскольку «недостаток мужественности» продолжает заявлять о себе, как и указанные выше страхи, развивая у него специфическую паранойю.
Приведу наиболее распространённый пример этой паранойи, о котором истерикам свойственно жаловаться. В публичном месте такой субъект оказывается возле мужской компании, где что-то активно обсуждают и громко смеются (производят характерные отыгрывания), — и в этот момент ловит себя на мысли, что с высокой долей вероятности объектом смеха является он сам, например, за то насколько были неловкими в этот момент его собственные движения или даже за выражение своего лица, которое, как кажется, отражало нелепость его мыслей в этот момент. Тяжесть обнаружения себя в таком статусе связана не только с внезапностью и непредвиденностью таких ситуаций, но и с переживаемыми здесь смятением и ощущением «абсолютной беспомощности» и открытости для такого воздействия, обезоруживающего истерика перед собственными мыслями: позиция в бессознательном делает его открытым для такого рода воздействий, но при этом желать как мужчина в открытую истерик не может, поскольку это создаёт уже описанную ранее угрозу его расположению на материнской территории, угрозу «быть униженным мужчинами». Далее, в качестве реакции на эти мысли возникает переживание, согласно которому будь на стороне истерика некая «мужественность» (у истерички в аналогичных случаях речь будет идти о «силе»), он бы непременно производил на всех без исключения окружающих впечатление, не позволяющее им смеяться в его присутствии в силу, так сказать, проявления уважения или в силу вызванных его грозным видом опасений (словно его вид должен заставлять окружающих соблюдать субординацию неясной природы). Важным аспектом происходящего здесь становится обстоятельство (переживаемое, но не артикулируемое) самого истерика, что отделаться от этих мучительных подозрений в свой адрес способом, которым ранее он отделался от отцовского отказа, уже не получается — что в аналитической оптике явно указывает на наличие вытесненного материала, который не может вернуться таким путём. Другими словами, истерик прочитывает происходящее как воспроизводство сцены столкновения с отцовским отказом, которой он всё это время пытался избежать, — и это повторение неизбежно, поскольку бессознательно истерик его жаждет, пытаясь воздать Другому недостающее наслаждение.
В этом пункте паранойя истерика напоминает картину обсессивного невроза, так что я предлагаю читателю только ещё раз убедиться насколько эти типы могут быть сходны во внешних частностях при полном отличии по структуре. Отличие будет состоять в том, что субъект навязчивости будет считать спасением от таких ситуаций не «мужественность», а содержимое его «сундучка», которое от других скрыто и поэтому греет обсессика своим потаённым наличием, позволяя ему в своей фантазии оставлять окружающих в дураках, — и этот жест истерической демонстративности противоположен, поскольку истерик стремится предъявить и оказывается в смятении от недостаточности предъявленного со своей стороны. В целом же в мужской истерии обнаруживается множество обсессивных симптомов: в основном это ритуалы, связанные с подавлением сексуальности и управлением мыслями, поскольку зачастую мужские субъекты как истерии, так и обсессии страдают «магическим мышлением», верой в то, что их мысли могут влиять на реальные события. Этот пункт ещё получит своё развитие, когда я буду говорить о «местах силы». Неспособность отделаться от преследующих мыслей о своей несостоятельности с одной (доступной для переживания) стороны делает истерика существом «вечно извиняющимся» перед окружающими, которые едва ли подозревают о его состоянии, а с другой (недоступной для переживания, реконструируемой в анализе) наглядно показывает в каком конкретно смысле он оказывается «отлучён» от мужественности. Здесь важно заметить двойной ход заблуждения, где второй такт оказывается важнее первого: когда истерик неожиданно становится «посмешищем» — это ещё не финал истории, поскольку остаётся много вариантов каким образом можно было бы распорядиться этой ситуацией, однако выбранная форма решения этой проблемы, которую истерик считает в общем-то очевидной и единственно верной, — «чтобы не быть посмешищем, нужна демонстративная мужественность», — наглядно открывает характер его дезориентации и замыкает круг заблуждения. Как видно, дело обстоит так, что позиция истерика вынуждает его производить бесконечные acting out-ы по отношению к мужскому братству, тогда как встреча с этим смехом провоцирует его на разрыв символических отношений, попытку сойти со сцены, в которой он оказался разоблачён. Такой подход в очередной раз напоминает о метафорической природе симптома: дело не в том, чтобы вернуть истерику утраченную мужественность, а в том, чтобы прочитать значение этой метафоры на символическом уровне как отражение его позиции по отношению к желанию Другого.
Таким образом истерик оказывается в положении вечно претерпевающего от других мужчин, неспособным к ответу и защите своего достоинства путём соперничества и противоборства, поскольку он не может желать как мужчина, не может обнаружить себя на мужской территории как равного и полноправного члена, — вместо этого он либо чувствует воображаемое превосходство на основании более близких отношений с женщинами, либо униженность, поскольку без прикрытия женщины и влюблённости в неё истерику не на что опереться, т. к. опора на мужское желание предполагает согласие с отцовским отказом в наслаждении. Там, где мужчина получает гомосексуальное наслаждение от унижения другого мужчины — наслаждение, связанное с мочеиспусканием, в котором сходятся разрядка и нанесение метки на соперника, — истерик испытывает сопротивление, обнаруживая неспособность беспрепятственно насладиться. Отсюда происходят различные проблемы с мочеиспусканием, возникающие у истерика на протяжении жизни: если в юном возрасте его штаны могут оказываться мокрыми по причине того, что он слишком долго терпит, то в более зрелом возрасте, напротив, постоянное удержание своего органа и отказ от того, чтобы получать с его помощью наслаждение, отличное от простого удовлетворения потребности, постепенно приводят к его дисфункции. Так, например, мне поведали историю мужчины, который описывал свой процесс мочеиспускания как «очень аккуратный и тихий», имея в виду, что он старался контролировать всё настолько, чтобы не издавать ни единого звука, напоминающего «громкий напор струи», особенно если он мочился в гостях или в общественных местах, — вместо этого он старался делать всё так, словно он «никому не желает зла», т. е. демонстрировал отсутствие фаллоса, который мог бы угрожать окружающим. В своём реальном итоге это стремление привело к тому, что этот мужчина стал мочиться либо полностью сидя, либо стоя, но в раковину, — чтобы не только не издавать звуки или заглушать их струёй воды из крана, но и сразу избавляться от следов процесса, т. е. не оставлять после мочеиспускания ничего, что могло бы указывать, что здесь был мужчина. Последовавшие после долгих лет безупречного исполнения этого ритуала проблемы с мочеполовой системой привели его в анализ, где выяснилось, что в детстве он, напротив, умел сильно наслаждаться мочеиспусканием и часто играл этим процессом, однако после особенно тяжёлого разрыва с женой по неизвестной для себя причине начал постепенно делать процесс тихим, заботясь таким образом об окружающих и показывая свою «исключительную воспитанность», безопасность для ближнего.
Есть и более тонкий момент, на который мне указали в ходе написания этой работы: при мочеиспускании мужчина обнаруживает себя в пространстве других мужчин, т. е. сам этот процесс оказывается своего рода первичной мужской грамотой, лёгким эквивалентом эдипального паспорта, который впоследствии может быть гарантированно получен путём усвоения отцовского отказа. Любопытно, что с точки зрения возникающих эффектов мочеиспускание оказывается противоположностью влюблённости: если вторая изымает мужчину из мужской территории, заставляя скрывать от других «секрет» своей возлюбленной (её обращение с отцовским объектом), то мочеиспускание, напротив, оказывается постоянной процедурой «возвращения к своим», сохраняя этот эффект на протяжении всей жизни мужчины. Обращение истерика с этими эффектами мы можем вполне в духе его сопротивления трактовать как страх «оказаться в мужской компании» в этот момент, что автоматически запускает его собственные объяснения этой ситуации через сомнения в собственной сексуальной ориентации, — в связи с чем он и вынужден таким необычным образом обращаться со своим мочеиспусканием, чтобы вытеснить из этого процесса любые ассоциации с тем, что его пугает. Из этого появляется другой крайне характерный для истерика мотив — повышенное внимание к чистоте как проявление красования, т. е. демонстрации истериком своего презрения к позиции мужского неряшливого шовинизма на уровне процедур гигиены. Он стремится быть аккуратен, чист и выбрит вплоть до утраты в своём облике чего-то такого, что позволяло бы узнать в нём мужчину: именно это очень быстро регистрируется со стороны женщин, которые находят таких мужчин «слишком прилизанными», «сладкими» или «метросексуальными», т. е. по не вполне понятной причине излишне обеспокоенными своим внешним видом и красотой в манере, более свойственной женщине как объекту желания Другого. Отсюда тоже рукой подать до подозрений истерика в латентном гомосексуализме, с которыми ему сложно справляться как раз в виду того, что он и сам готов подозревать себя в этом, поскольку эта мысль приходит в голову одной из первых и ему как банальная первейшая ассоциация.
Возвращаясь теперь к примеру со смехом можно сказать, что истерик отказывается усваивать гомосексуальное измерение, которое разделяется смеющимися членами мужской компании, и вместо этого демонстрирует презрение самому факту их объединения в группу и практикуемому этой группой наслаждению. Дело в том, что 1) и это отыгрывание, «смех мужской компании» и 2) способность его выдержать в опоре на свой я-идеал (особенно если он действительно адресован вам) вместе сигнализируют о причастности к мужскому, к усвоенному отцовскому отказу. Попытка проигнорировать мужские игры, стремление найти гарантированный способ с ними никогда не встречаться и пресекать их появление одним своим видом, — это и есть показатели желания субъекта, который отлучён от мужского и находится за пределами координат своего пола (аналогичный мотив у истеричек я укажу в следующей главе). Поэтому нет разницы какой способ решения истерик в данном случае предпочтёт: состроить каменное лицо, полагая, что его потуги примут за чистую монету и не распознают сокрытую за ним неуверенность, или зеркально сымитировать такой же смех в попытке сойти за своего, — в любом случае в его действиях со стороны будет распознано прежде всего непонимание происходящего, особый формат дезориентации, в котором узнаётся несогласие с отцовским отказом. В этом смысле раздражительность и взбалмошность характера мужчин-истериков оказываются лишь реакцией на возвращение в рамках подобных ситуаций истины своего угнетённого положения, реакцией на неспособность найти хорошее решение своими силами и, стало быть, следствием неверной постановки вопроса о происходящем — другими словами, как бы истерик не старался, везде он находит «только себя» и никакой реальной альтернативы своей неуверенности не видит.
Слепой зоной для истерика в этом пункте остаётся непреложный мотив избранной им антиотцовской позиции, безошибочно распознаваемый со стороны мужской компании (в силу возникающего здесь эффекта причастности, а не в силу особых личностных качеств участников). Дело не совсем в том, что истерику буквально не достаёт мужественности (или выучки как правильно её демонстрировать), но в том, что на самом деле он никогда не прекращает демонстративно «вытирать ноги» о мужскую науку и заодно пытаться извлечь из этой агрессии некоторые преференции, ту самую «уникальность», которая подмигивает женщине и выставляет истерика как того, кто во всем отличен от отца и полностью принадлежит материнской стороне. Истерик вытирает ноги не о носимый женщиной отцовский объект, а о мужскую науку — в этом заключается обращённый уже к матери посыл гомосексуального сопротивления, показывающий ей насколько далеко он готов зайти в пренебрежении отцом. Здесь важно то, что на этом различии истерик сам настаивает как на своём отличительном знаке: его гордость собой основывается на том, что его невозможно упрекнуть в шовинизме, в отличие от среднего представителя мужской науки, в котором всегда есть нечто надменно-пренебрежительное по отношению к женщине, например, выражающееся в отказе публично подержать её сумку или заниматься с ней оральным сексом. Мужской шовинизм является следствием усвоения отцовского отказа и его воспроизводством на другой территории, и поэтому истерик настолько анти-шовинист, насколько это возможно, — и последствия этого крайне любопытны, поскольку они не совпадают с тем, на чём настаивает современная социальная педагогика, которая борется с «токсичной маскулинностью» и требует от мужского субъекта уважения к слабым. Несовпадение проходит по измерению сексуальности, о котором уже было сказано ранее: рыцарски анти-шовинизм истерика в итоге приводит к импотенции и неспособности «причинять женщине зло» посредством сексуального акта, который невозможно избавить от агрессивных коннотаций и сделать актом чистой любви. В этом смысле консерватор правильно подозревает, что сегодня ему нужно выбирать: либо сексуальная активность и шовинизм, а значит и все связанные с этой позицией неудобства, либо истерическое «уважение» к женщине и угроза импотенции.
Паранойе в мужской истерии могут сопутствовать различные фобические мотивы как по отдельности, так и все разом: страх отцовского отказа, метафоризируемый в страх «оказаться геем» и быть избитым или осмеянным; страх «сделать больно» женщине как это делают мужчины, т. е. совершить над ней сексуальное насилие даже когда речь идёт о соитии по взаимному согласию; страх самой женщины, которая воспользуется тем, что истерик позволяет ей делать что угодно, лишь бы она не уходила. Агорафобия маленького Ганса является неизбывным следствием бессознательных процессов, протекающих на мужской стороне жизни истерика: развитие любой фобии в истерии так или иначе приводит к формированию страха выходить из дома в публичное пространство, где истерик ожидает столкновение с нагруженным аффектом символом отцовского отказа, который в силу заранее занимаемой возвышенной позиции прочитывается истериком как невыносимое. По этой причине на определённых этапах своей жизни истерик — это обязательно агорафоб, но можно сказать, что даже без ярких симптомов страха он напуган перманентно (в отличие от обсессика, который перманентно стыдится себя), и это положение позволяет вернуться к вопросу фрейдовского выделения фобии как отдельного симптомокомплекса, чтобы переопределить её место в контексте истерического невроза.
Если обратиться к детству истериков, то там с большой вероятностью можно найти те же фобические мотивы, неясный страх перед неизвестно чем, страх самого страха, который при рассмотрении оказывается идентичен материалу маленького Ганса. Можно таким же образом перечислить страхи Ганса, чтобы увидеть насколько они соответствуют приведённым здесь примерам: доктор отрежет wiwimacher, лошадь укусит, мать не возьмёт в кровать и перестанет любить, у девочек нет wiwimachera, — всё это варианты обнаружения своей символической кастрации, аналогичные современному страхам «быть избитым», «оказаться геем» или более раннему варианту истерического страха — преследования «монстрами», которые «схватят» истерика, например, когда он принимает ванну или лежит один в темноте. Маленький Ганс ищет особой близости со своей матерью, чтобы таким образом противостоять кастрации Другого и своей собственной, находя в материнской кровати утешение и подтверждение своей целостности. Интерпретация этого случая, согласно которой «у матери тоже есть фаллос», потому и способна сработать для истерика, что именно этого фаллоса матери он и желал бы, как желал бы образовать с ней возвышенную любовную связь, — но не потому, что ему нужно избавиться от отца, чтобы «быть всегда рядом с такой красивой женщиной», а потому что связь с матерью имеет гораздо более насущную необходимость, чем «отношения с красивой женщиной». В этом смысле отец может стать пугающей помехой уже не как соперник, а как тот, кто не понимает «истинного назначения женщин» и самим своим присутствием вносит порчу в идиллические представления истерика, поскольку в любой момент может произвести неодобрительный взгляд или отвлечь мать. От обладания матерью зависит не любовная жизнь истерика, а выживание его Эго, сохранение его «милого сундучка», который можно сравнить с сундучком навязчивого невротика из известного лакановского пассажа. Если в детстве истерик спасается от кастрации с помощью близости с матерью, то в зрелом возрасте он ищет для этого женщину, с которой сможет вступить в брак, предложив ей себя в качестве незаменимого элемента её собственного желания.
Таким образом, фобия маленького Ганса, — это наиболее ранняя стадия развития мужской истерии, которая может быть предложена для анализирования, наиболее ранняя жалоба истерика, связанная с невозможностью находиться на мужской стороне и бегством на территорию женского желания. Теперь можно дополнить указанное в прошлой главе различие между истериком и истеричкой по отношению к желанию Другого: если для неё полностью отдать себя этой позиции является принципом и поводом для гордости, то для истерика существует непреодолимое препятствие в виде фобии, которое не позволяет произвести столь же радикальный жест. Именно это положение становится ответственным за то, что Фрейд не говорит о мужской истерии в контексте фобии, вместо этого говоря об «истерии страха», — что означает, что он был настолько близок к раскрытию сути, насколько это возможно при диагностике без использования лакановского аппарата в опоре на наблюдения и пересказываемый отцом Ганса материал. При таком подходе фобия вполне закономерно выглядит как психический предел, к которому может сводиться невроз, однако этот предел сам по себе не сообщает свою общую природу с тем, что Фрейду уже было известно по случаю Доры, поскольку для истерички развитая фобия не настолько характерна (чаще эти мотивы останавливаются на сильной паранойе, не переходя в фобию), тогда как для истерика по всей видимости неотъемлема от психической конституции. Можно заключить, что фобия является ничем иным, как предельным защитным образованием желающей жизни истерика и выражает его стремление «не стать невестой Другого», не столкнуться с осуждающим взглядом реального отца, который в случае Ганса был перенесён на лошадей. Неслучайно его описание предчувствия страха так напоминают психотический эпизод переживания тотальности Другого, который заканчивается через возвращение истерика в лоно нестабильной позиции неопределённости своего пола. В опоре на это рассуждение нужно трактовать взрывное стремление истерика периодически признаваться в своей гомосексуальности: этот позыв необходимо удовлетворять для «выпуска пара», т. е. для возвращения к ситуации, где на нём оказывается разочарованный отцовский взгляд, и поэтому после очередного чистосердечного признания его жизнь нормализуется и уже очень скоро он может снова пуститься преследовать очередную женщину, забыв о своём каминг-ауте. В психозе, как в случае Шрёбера, такой выпуск пара невозможен, поскольку желание Другого уже найдено, и это заставляет судью «стать женщиной», т. е. воображаемым образом сменить пол, чтобы быть не гомосексуально изнасилованным Другим, а быть «взятым в качестве женщины с соблюдением всех правил приличия».
Отсюда видно, что истерику важно сохранять для себя этот отцовский неодобрительный взгляд, чтобы периодически к нему возвращаться, — т. е. на самом деле он тоже не сдаётся, как истеричка, но не сдаётся в ином смысле, поскольку на отцовскую милость он не надеется, желая сохранить для себя отца отказывающим, жестоким и в этом смысле романтически не понятым загадочным персонажем. Любопытно то, что личная невротическая борьба с этим положением в итоге превращается в уверенность истерика в своей колоссальной сексуальной силе: этот мотив является ещё одной альтернативой мужскому шовинизму и, будучи отличным от действий отца, оказывается провокацией, которая должна рано или поздно обратить на себя неодобрительный взгляд. Уверенность в том, что женщине для полноценной жизни не хватает именно героя-любовника в постели, является почти безошибочным маркером истерической структуры, поскольку никакого объяснения этого положения истерик дать не может: для него такой взгляд является естественным, само собой разумеющимся и не требующим никаких дополнительных объяснений. Позиционируя себя как непревзойденного ублажителя, истерик тем активнее утрачивает этот взгляд на свои возможности, чем более ясно открывается ему устройство территории, на которой он решился действовать, — а именно, что как бы он не был хорош, женщине его всегда будет недостаточно в связи с устройством её фантазма, поскольку то, чего ей не хватает, с сексуальным актом вообще никак не связано. Здесь можно вернуться к сказанному о куколдах в работе о женской истерии: эта фантазия оказалась гораздо характернее именно для истерика, чем для истерички. Поскольку истерик предлагает себя женщине не как мужчина, то в конце концов это приводит его к неспособности производить сексуальное насилие над женщиной, которое является неотъемлемым элементом соития, — причём не на уровне физического принуждения, а на уровне желания, т. е. истерику тяжело «унизить женщину», чтобы получить наслаждение, поскольку униженное положение напоминает ему о своей драме на мужской территории. В этом месте срабатывает всё то же гомосексуальное сопротивление, поэтому для обеспечения «счастья» своей избранницы истерику со временем приходится уступать это место другому мужчине, тому самому «шовинисту», который лишён пиетета перед женщиной и готов «вытирать ноги» об её честь, производя сексуальный акт. Соитие возлюбленной женщины истерика с другим мужчиной представляет для него разыгрывание сцены, на которой женщина с одной стороны управляет удовлетворением двух мужчин из привилегированной позиции, а с другой стороны оказывается униженной женой, пойманной на измене, тем самым воплощая в себе то двойственное положение, в котором истерик постоянно себя ощущает. Куколд не является вуайеристом, наслаждающимся со стороны наблюдением за сексуальным актом: его непосредственное участие в качестве третьего обусловлено необходимостью его унижения всем этим действом, обозначая тем самым предельные следствия его позиции по отношению к женщине, т. е. тот факт, что ради спасения от кастрации он готов на что угодно. Позиция куколда предполагает полную включённость в процесс в качестве третьего, «радеющего» и исполненного гордости за то, насколько хорошо в этот момент его женщине, т. к. его заход на эту территорию изначально метил в удовлетворение женских потребностей, тогда как вуайерист наслаждается возможностью отстранённо видеть ситуацию, не имея к ней прямого отношения. Его наслаждение, — это наслаждение неодобрительным отцовским взглядом, который в фантазии истерик окажется привлечён устроенной таким образом сценой.
Более того, в сексуальном акте присутствует тот же мотив гомосексуального наслаждения, что и при мочеиспускании, поскольку «взятие» женщины предполагает надругательство над хранимым ею отцовским объектом, — и поэтому в том случае, если мужчина «настолько уважает её и дружит с ней», что ни в коем случае не способен нанести урон её чести, то даже при полной уверенности в своей сексуальной мощи он окажется неспособен насладиться ею, т. к. эффекты обязательно скажутся на его половой жизни, постепенно делая её невозможной в классическом смысле. Отсюда проистекает необходимость приглашения «недружественного» мужчины, который способен женскую честь попрать к её и своему удовольствию, — и это именно демонстрация того акта, на который истерик к определённом этапу развития своего невроза оказывается к своему удивлению уже мало способен, несмотря на изначальный заход с позиций ублажителя женщин. Распространённость этого мотива не оставляет никаких сомнений в массовом характере мужской истерической импотенции, а так же того, по какой причине сегодня мужские субъекты могут стремиться в брак: он становится не способом владеть женщиной и демонстрировать её как захваченную ценность, как аксессуар своей успешности, а напротив, становится подарком женщине от истерика, который в опоре на связь с ней становится способен обеспечить её всем необходимым, в том числе другим мужчиной, который будет её исправно трахать. В этом смысле истерик становится объектом сокровенных женских чаяний, поскольку в браке с ним она одновременно занята и свободна, притягательна как чья-то жена с точки зрения нарушения Закона и одновременно открыта для других мужчин, поскольку истерик не претендует на неё с мужской стороны — более анти-шовинистическую и про-феминисткую позицию трудно вообразить. В связи с этим жалобы истерика на недостаток мужественности — как и цель завладеть этой мужественностью, — следует сразу понимать в контексте его особой нужды, которая к женщине отношения не имеет. Иначе говоря, истерик собирается пользоваться этой добытой мужественностью совершенно не так, как ею пользуется потенциальный обладатель, к которому он идёт за советом, — собственно, поэтому он и оказывается на своём месте неуверенности, но не понимает «что он делает не так» (т.е. не признаёт за этим своё желание распоряжаться мужеством иначе, чем классический мужской субъект).
Такая неустойчивая позиция субъекта, где с одной стороны отсутствие опоры на отцовское, а с другой — яростные попытки подстроиться под материнскую прихоть, — является визитной карточкой мужского истерического невроза и не позволяет субъекту истерии самостоятельно преодолеть это состояние, поскольку в рамках этой позиции выбирать всегда приходится между невыносимой уступкой и непростительным предательством. Поэтому жизнь истерика остаётся конвенционально неустроенной до тех пор, пока и если ему не удастся заручиться гарантированной «поддержкой женщины» в описанном выше смысле, а бесчисленные попытки добиться этой поддержки составляют основу его драматических переживаний беспомощности и неприкаянности, поскольку мужское сообщество не может предложить истерику «укрытия» исключительно в той связи, что он сам не рассматривает нахождение среди субъектов своего пола в качестве надёжного тыла. Скорее это как раз то место, где ему придётся регулярно «быть посмешищем», «извиняться» неизвестно за что и испытывать страх «быть использованным», в связи с чем, как правило, он стремится организовать своё отличие от субъектов мужского братства социально-приемлемым образом, рационализируя его до превосходства в «эмоциональном интеллекте», в профессии или в личных особенностях, которые не должны напрямую отсылать к фантазируемой мужественности.
Неустроенность эта напрямую связана с тем, что вынужден претерпевать истерик в случае потери женщины в связи с неудачей в организации холдинга. В качестве представителя такого неустроенного типа современного истерика можно привести инцела — именно здесь жалобный вопль об утрате истерика выведен на уровень зацикленного социального высказывания, т. е. инцел буквально повествует о том, что его неустроенность в жизни не привлекает женщин, а отсутствие женщины делает его жизнь патологически не устроенной. Важно, что инцела не интересует формат отношений с женщиной, который, например, тому же представителю мужской науки был бы вполне приемлем — т. е. отношения с проституткой без мотива её любовного спасения, поскольку в них полностью отсутствует необходимый для истерика героизм, в котором его мужское достоинство жертвуется во имя спасения женского желания. В этом смысле инцел видит себя персонажем героическим (его «принудительное воздержание» — это демонстрируемый подвиг), претерпевающем жизненные неудобства во имя сохранения своей позиции и уступая женщин тем, кто «более достоен» — т. е. ведёт себя, как сказали бы ранние фрейдисты, пассивно-анальным образом. Женщина инцелу «не пишет», «не интересуется» им, что означает, что он постоянно демонстрирует зрителю своё непростое, униженное женщиной положение, которое могло бы почти мгновенно восстановиться в том случае, если бы только она вела себя «по-человечески», т. е. если бы эта «Госпожа» (возвеличенная самим инцелом до такого статуса и не просившая об этом) соблюдала принципы равенства и справедливости, взаимного обмена компенсирующими жестами.
Отсюда понятно, что перед нами не мужской персонаж, поскольку «покинутость» женщиной не является идентификационной проблемой для того, кто находится на мужской стороне, т. е. отсутствие женщины никогда не означает исключённости из мужского и потерю позиции в символическом. Но похоже, что инцел как раз-таки определяет свою позицию если не полностью, то по большей части исходя из того, насколько он «потребен» женщине, т. е. насколько он способен предстать объектом её желания, а не классическим представителем мужского братства, который располагает себя через соответствие отцовской линии. Жалобы инцела говорят о том, что для него невыносимо находиться в позиции «немилости» у женщин, т. е. он не понимает каким образом ему занять место затычки женской нехватки и через холдинг вернуть себе объект, обладание которым сделало бы его жизнь «полноценной», исключило бы из неё последствия кастрации. Другими словами, инцел хочет, чтобы его наконец «просто любили», — и это указание является классическим для истериков, как и представление об отсутствии женской кастрации, делающее из женщины объект привилегированный и определяющий происходящее. Слушая инцелов можно узнать как выглядит требование истерика по отношению к женщине, чтобы её любовь могла служить опорой для его желания: «она должна полюбить меня таким, какой я есть, без денег». Тем самым устраняется элемент анального обмена, поскольку истерик сам предлагает себя в качестве такого объекта, которому необходимо выделить себя из символического ряда прочих обменных предметов и предложить в уникальном не-заменимом качестве, как то, что нельзя обменять без тяжёлых потерь. По этой же причине истеричка не является женщиной как предметом обмена: она уникальна, и её уникальность находится за пределами женского, поскольку Господину нужна не женщина, а особое существо-компаньон, не отмеченное половым различием.
Этот мотив связан с ещё одной областью обитания истерических субъектов — это сфера благотворительности, в которой царит атмосфера отсутствия символического обмена, а значит и отсутствия сексуальности, тем самым располагая истериков к тому, чтобы располагаться в этих координатах, как если бы эта область была «абсолютно чистой», не предполагающей никакой выгоды и корыстных мотивов. Именно любовь к неимущим, бездомным, бродячим животным и детям с редкими заболеваниями для истериков выглядит достаточно бескорыстным мероприятием, «местом, где оказывают милость», чтобы ожидать, что здесь они точно не столкнутся с невыносимостью сексуальных не-отношений, где всегда существует опасность «предательства», т. е. обнаружения измерения пола и нехватки у партнёра. Однако здесь позиции истерика и истерички тоже различаются, причём в манере, повторяющей различие по отношению к мужской науке: если истеричка предпочитает сама быть благотворителем и никогда не позволит «подавать» ей, поскольку такие жесты в её адрес означали бы, что она не справляется и демонстрирует женскую нехватку, то истерик, напротив, гораздо чаще и охотнее оказывается на месте того, кто подаяния ищет, поскольку, как в случае инцела, такой жест в свой адрес он считает «чистым», бескорыстным и не требующим от него ничего взамен — как если бы женщина просто полюбила его без денег, таким, какой он есть. Можно даже с высокой степенью уверенности утверждать, что истерики в этом вопросе оказываются настолько настойчивы, что готовы терпеть материальные лишения и тяжёлые жизненные условия только для того, чтобы «не мараться» о недостаточно чистые жесты символического обмена, — инцел в этом смысле является показательным примером насколько далеко может зайти истерик, прочно обосновавшийся на своей позиции и не сдающий ни под каким натиском. Разумеется, возможно это в связи с тем, что такое непримиримое сопротивление уже освоено истериком в отношениях с отцовской фигурой: позиция возвышенного «изгоя» на мужской территории для него не нова.
Сторона матери: безвыходность насилия и мечта о нарциссизме
Мы начали с расположения истерика в качестве объекта желания Другого на материнской стороне и вывели из него две ключевые операции, которые он проводит бессознательно — это холдинг матери, психическое удержание себя возле неё и её возле себя для защиты от кастрации, и гомосексуальное сопротивление как отказ разделять наслаждение мужского братства и отказ от солидаризации с отцовской линией, приводящие истерика в лоно фобии, которая помогает реализовать это устремление и является пределом его динамики. Диахроническое развёртывание этих операций и их накапливающееся влияние на жизнь истерика создаёт характерные отметины на его бытии, которые тоже заслуживают анализа и описания.
Теперь можно увидеть больше двусмысленности в том, как именно истерик оказывается на материнской стороне в результате непримиримого сопротивления отцовскому отказу: бегство истерика к матери, как мы видели на примере маленького Ганса, является неизбывным следствием его драмы на мужской стороне, симптоматическое разрешение которой он пытается обрести на территории женского желания. В этой связи и возникает необходимость холдинга матери, поскольку никакого варианта вернуться на мужскую сторону и ещё раз обратиться к отцу у истерика не существует, — в этом месте уже образована фобия, препятствующая такому ходу. Даже в случае самопроизвольного растворения ярких проявлений этой фобии, что для членов семейства становится признаком долгожданной нормализации истерика, с аналитической точки зрения нет никаких причин утверждать, что невроз исчез, — напротив, истерическая детская фобия как правило сходит со сцены даже без вмешательства специалистов, поскольку её функция заключается в том, чтобы убедить истерика никогда не показываться на мужской территории. Как показывает клинический опыт, обратно в мужское братство истерик всё же может попытаться вернуться, однако произойдёт это не раньше, чем он разрешит новую ситуацию, которая возникнет в результате развития его невроза на материнской стороне.
Дело в том, что «недостаток мужественности» — это относительно поздняя в плане озвучивания жалоба, но не потому, что она не влияет на жизнь истерика, а потому что он продолжительное время сопротивляется осознанию её влияния, стараясь выстроить свою желающую жизнь альтернативным образом, т. е. купируя свою мужскую недостаточность через близость с матерью. Поэтому озвучиваемым и осознаваемым страданием для истерика в постфобический период становятся интенсивные по драматичности события, связанные с «возделыванием женщины» на ранних этапах. До того, как найти тихую гавань в браке и достаточно неплохо (по сравнению с истеричкой) устроиться в жизни, обращение истерика с женщинами, напоминающее беспорядочные и множественные попытки эту гавань найти, будет исполнено переживаниями не менее мучительными, нежели положение изгоя по отношению к мужскому братству, — и с аналитической точки зрения весьма существенными для понимания психической конституции такого субъекта. После фобического периода, который проходит так же внезапно как наступал, идёт период «долгой тяжбы с матерью», поскольку здесь со временем для истерика становится очевидной та ловушка, в которой он оказался из-за попыток целиком разместить себя под юбкой её желания. Отношения с матерью как с «обиженной отцом женщиной, за которую нужно заступиться» в рамках мужской истерии приобретают характер череды доступных для переживания судьбоносных ситуаций, в которых истерик будет совершать радикальные жесты по отношению к её желанию и принимать на свой счёт их последствия, от которых уже в дальнейшем с помощью «обретения мужественности» пожелает избавиться, поскольку они создадут симптоматические препятствия в отношениях с другими женщинами, вроде необычной психической импотенции и неспособности конкурировать с другими мужчинами.
Для дальнейшего продвижения я буду использовать наблюдения и выводы из моей работы об истерии в Эдипе, дополнив их теми особенностями, которые разворачиваются в мужской истерии, поскольку расположение истерика на стороне матери довесит до предела то, что для истерички остаётся в зачаточном состоянии. Напомню, что женский субъект истерии располагается на мужской стороне, полагая отца существом претерпевшим возвышенную травму, в связи с чем на него не может быть направлена агрессия, которая возникает всякий раз при обнаружении невыносимости его кастрации, — и эта агрессия направляется истеричкой на мать, рационализируя такой ход представлением, согласно которому мать виновна, поскольку она не обошлась с отцом достаточно хорошо, чтобы он «воспрял» и «стал настоящим мужчиной». Иначе говоря, в женской истерии объяснение отцовской неполноценности проходит через измерение сексуальности, в связи с чем истеричка бессознательно определяет суть его проблемы в духе «у отца не было правильной хорошей женщины, которая изменила бы его жизнь», в связи с чем истеричка назначает мать ответственной за утрату измерения, которое делало отца отцом, подозревает наличие у неё фаллоса (фаллическая мать) и обвиняет мать в безучастности к тяжёлому отцовскому положению. На этом такте попытки наказать мать проваливаются в связи с тем, что её нехватка оказывается не менее невыносимой, чем отцовская, что пугает истеричку ещё больше постольку, поскольку мать того же пола (понятого на уровне воображаемого), и поэтому реакцией на её кастрацию становятся хаотичные попытки истерички провести различие, чтобы ни в коем случае не быть «как мать». Эти попытки замещают изначально возникшую на мать агрессию, перенаправляя её на саму истеричку для переделывания себя и наказания за то, что ей не удаётся отличаться от матери достаточно хорошо, — для такого наказания достаточно, чтобы что-то «женское» случайно проскочило в её образе.
Истерик же на этом уровне избирает траекторию, которую можно сформулировать так: «если к отцу нет никакого доступа, то можно хотя бы спасти мать», поскольку её способность купировать его нехватку и защищать от кастрации невозможно ничем заменить. И надо заметить, что в отличие от истерички он верно прокладывает линию разделения, согласно которой мать не имеет никакого отношения к дефекту отцовского желания, и не выдвигает поспешных обвинений. Однако это верное разграничение (добиться которого в работе с женской истерией означает немного продвинуться) не устраняет изначальную запутанность истерика относительно его семейной истории, и не приводит его к вопросам, постановка которых дала бы иное видение происходящего. Если истеричка абсолютно уверена, что отец мог быть другим человеком, окажись возле него правильная женщина (или не совсем женщина), то истерик придерживается ровно того же мнения относительно матери, чья тяжёлая судьба и «недооценённость мужчинами» на уровне сокровенных женских надежд вызывают в нём стремление «поддержать женщину на иных основаниях», поскольку мужское фаллическое основание ему недоступно из-за гомосексуального сопротивления. В этом смысле истерик довольно быстро приноравливается быть крайне чувствительным к женским прихотям существом, которое, наблюдая со стороны за развёртыванием родительских отношений (или слушая материнские истории об отце как мужчине-предателе) проникается женским взглядом на вещи гораздо больше, чем можно ожидать от претендента на мужское достоинство. Во внутрисемейных тяжбах истерик занимает материнскую сторону, показывая, что желание матери волнует его гораздо больше, чем отца, — причем независимо от того, есть ли в этой семье отец или нет, поскольку расположить себя в противовес отцовской линии можно на основании рассказов о нём.
Для понимания того, какую форму принимает такая позиция, будет не лишним провести ещё одно различие между истеричкой и истериком, которое на сей раз коснётся женского карнавального наслаждения. Карнавал — это когда женщина «поправляет шляпку», т. е. публично обозначает свой пол и красуется, создавая для окружающих совершенно характерное неудобство, которое им предлагается стерпеть, поскольку этим жестом женщина исполняет функцию отцовского фаллоса (в особенности это предлагается стерпеть её мужу, который будет отыгрывать тревогу юмором, чуть меньше — мужчинам, которые заинтересованы в её расположении). Общеизвестно и доступно бытовому наблюдению, что «поправлять шляпку» женщина более всего желает там, где это доставляет наибольшие неудобства для окружающих, например, в узких проходах, создавая очереди своей неуклюжестью, или в других ситуациях, где точно такая же мужская нерасторопность вызвала бы чувство стыда и неуместности, тогда как женское красование, напротив, встречается с пониманием. Это можно пронаблюдать на пешеходных переходах, где водители готовы потерпеть не особо спешащую женщину (если она с ребёнком на руках или с коляской, то уровень терпимости автоматически стремится к бесконечности) или мягко подбодрить её к большей расторопности, но в случае, если аналогичным образом промедлит субъект мужского пола (или не обозначит достаточно чётко готовность перейти дорогу максимально быстрым и рациональным путём), ему немедленно подадут сигнал о неуместности, т. е. от него потребуют собраться, намекая, что он красуется, словно требует к себе особого отношения. Другой пример — традиция женских опозданий, которая является воспроизводством того же жеста красования на сцене, где ожидающий её не видит: раз опоздала, значит где-то красовалась, копалась, медлила — и ожидающим встречи с ней предлагается принять во внимание её пол.
Субъекты истерии в отношении этого женского жеста демонстрируют особые реакции, по которым их всегда можно узнать, поскольку эти реакции направлены не столько на само женское красование, сколько на то, каким должен быть предполагаемый отцовский ответ на этот жест. «Правильная реакция» будет диаметрально противоположным образом прочитываться в зависимости от того, кто перед нами. Истеричка считает, что отцу не хватает «силы» чтобы оборвать красование матери и пресечь его на корню, и поэтому она реагирует на женское наслаждение крайней степенью стыда за женщину (этот стыд почти мгновенно переносится на неё саму как на представительницу женского пола) и агрессией на мать за неуместное поведение — отсюда возникает противопоставляющий себя женскому педантизм истерички (ей нельзя быть «копушей»), который нередко ошибочно принимают за признак обсессивного невроза. Другими словами, со стороны истерички исходит требование беспрекословно соблюдать субординацию, тем самым указывая на то, чего по её мнению не хватает отцу для полноценной желающей жизни. Истерик же наоборот считает, что отцу не хватило «силы» чтобы дать матери развернуться в своём красовании настолько, насколько это возможно, и поэтому её «поправление шляпки» не такое уверенное и полноценное, не такое возвышенное и прекрасное (её «не раскрыли как женщину»), как могло бы быть, если бы рядом был «правильный мужчина», который любил бы её той любовью, на которую готов истерик, любовью возвышенной и не мужской.
На этом уровне взаимодействия истерик использует стратегию «вести себя как тот, кто на этом месте был бы уверен», — поскольку отцовский я-идеал здесь заранее обесценен, то позиция «альтернативы отцу на неясных основаниях» вырабатывается истериком в опоре на материнскую прихоть, при этом успешность своих стараний он оценивает исходя из того, насколько мать удовлетворена им «в отличие от других мужчин», т. е. подтверждение происходит только через операцию выделения его из мужского множества по тому же принципу, как это происходит при влюблённости. Находясь в постоянной зависимости от материнского настроения и не в силах экранировать себя истерик постепенно оказывается в положении крайне уязвимом, поскольку описанные выше условия для его нахождения возле матери требуют безостановочной поддержки, бесконечных уступок и умасливания матери с его стороны, что по сути представляет собой различные способы удовлетворения материнского требования. Такое обхождение с требованием, как известно, не может привести ни к чему другому, кроме как к разогреванию аппетита и повторению его предъявления, поскольку для удовлетворения стоящего за требованием желания необходим отказ, который истерик, как теперь можно понять, боится произвести, чтобы не остаться без приюта в материнском желании. Постепенно эта практика подстройки под мать приводит истерика к бессилию и невозможности всегда отвечать согласием на её требование, словно он провинившийся герой-любовник, который никак не может удовлетворить прихоть своей госпожи и в силу обстоятельств непреодолимой силы вынужден всякий раз подставлять свою голову под удары её недовольства, чтобы (как ни странно) дать ей удовлетворение хотя бы таким, негативным образом. Другими словами, истерик самоотверженно занимает позицию «быть верным матери так, как никогда не будет верен отец», т. е. становится тем, кто в отличие от мужчины «полностью открыт материнской воле» и готов принять всё, что она хотела бы с ним сделать, в связи с чем его жизнь в этом периоде превращается в «истязание женской любовью», а сам он — в объект женской пытки. Говорить о мазохизме здесь было бы неверно, несмотря на наличие некоторых синонимичных мотивов, — на самом деле беззащитным истерика делает полное отсутствие шовинизма, который может быть внедрён только через отцовский жест. Пытки материнской любовью становятся (с неопределённой длительностью и периодичностью) содержанием жизни истерика, который в этом вопросе демонстрирует точно такую же неотступность от своих принципов, как истеричка по отношению к отцу: сколько бы мать не пытала его, какие бы изощрённые способы отомстить отцу через него она не воспроизводила, истерик не отступает и «держится», в основном конечно за свои представления о том, что ему удастся повлиять на жизнь женщины и таким образом искупить лежащий на его плечах «мужской грех». Для истерика бухгалтерский подсчёт «оскорблённости матери» с мужской стороны ничуть не менее важен, чем аналогичный подсчёт степени его личной мужественности по сравнению с представителями мужского братства, которым он будет заниматься в более зрелом возрасте.
Драматизм этого периода связан с безвыходностью положения истерика, которая в некоторых аспектах напоминает ему предыдущую безвыходность положения перед разочарованным взглядом отца: отказаться от матери невозможно из-за страха столкнуться с кастрацией, издав тот самый «вопль», а продолжать находиться с ней в такой же близости невозможно из-за безудержности её требований, каждое из которых угрожает перевернуть положение истерика, требуя от него всё новых и новых уступок. Нужно отметить, что эти уступки осуществляются как операции анального уровня, т. е. истерик обращается с собой как с объектом, к которому предъявляется агрессивное требование, понуждающее подчиняться и делать со своим Я то, что скульптор делает с мрамором, отрезая от него всё, что не вписывается в идеальный образ художественного замысла. Такое обращение вызвано уже описанным ранее характером прочтения истерика, в котором и заключается вся суть его холдинга: «если он не сделает то, чего хочет мать, то придёт отец». Этот на самом деле почти стандартный воспитательный ход, который встречается повсеместно, в случае истерика срабатывает в качестве избыточно сильного вызывающего панику жеста, вынуждающего забегающим вперёд жестом предотвращать возможное разочарование и недовольство матери, чтобы она не пожелала вмешательства другого мужчины или отца. Можно заметить, что истерику недоступна ситуация «союза с отцом» против материнской педагогики, которая также нередко встречается: союза, в котором отец производит операцию затыкания валиком крокодильей пасти, после которой материнские преувеличения и перегибы теряют свою настоятельность и перемещаются на уровень громкой болтовни, которую можно формально игнорировать. Вместо этого градус серьёзности происходящего только повышается и ставки только растут, поэтому этот период наполнен давлением, которое истериком прочитывается в духе сексуального насилия: с одной стороны безудержные требования матери, на которые истерик отвечает только уступками, а с другой — требование отцовского взгляда, исключающее истерика с мужской территории и делающее невозможным отступление от матери.
Именно из этой ситуации вырастает убеждённость истерика в необходимости «решать возникающие в отношениях проблемы», т. е. отсутствие понимания того, что не все ситуации являются проблемами, которые нужно решать, — чтобы освоить такой ход, нужно иметь доступ к отцовскому отказу. Вместо того, чтобы ослабить градус происходящего через отступление или смену позиции, истерик стоит до конца и требует искреннего ответа, полагая в своей возвышенной манере, что искренность в таких вопросах может быть определяющей и надежной. В этом периоде истерик впервые сознательно сталкивается с последствиями происходивших ранее бессознательных операций, как бы внезапно обнаруживая себя в круге бесконечного насилия, из которого не существует выхода, поскольку покинуть мать так же, как он покинул отца уже не представляется возможным из-за кастрационной тревоги. Поэтому, как правило здесь истерик запускает длительный дипломатический процесс, плавно переходящий в судебную тяжбу с матерью, которая его стараниями должна закончиться полюбовно. Однако после особенно показательных и насыщенных неудач на этом поле, приводящих к его самоистязаниям в попытках удержать мать возле себя, его Эго оказывается достаточно истощено, чтобы всё это время купируемая агрессия начала взрывообразно прорываться вовне. Прочитывать это нужно как истерический passage a l’acte, попытку оборвать символические отношения, которая всегда заканчивается неудачей и возвращением в лоно символического.
Формы этого прорыва могут быть разные, но ключевая их характеристика в случае истерика — внешняя объектная направленность, что отличает его от истерички, поскольку она в аналогичных ситуациях занята самоповреждением, нанося себе порезы, выкручивая кожу или иным образом травмируя себя, чтобы снять напряжение. Наиболее распространённые формы прорыва анальной агрессии в случае истерика, которые я мог наблюдать в клинической практике, — это мелкое бытовое вредительство, пиромания и жестокое обращение с животными. Истерику требуется объект для направления насилия, который мог бы заменить мать, — и в ход идут детские игрушки, которых изощрённо мучают и отрывают головы, домашние животные, которых изобретательно доводят до белого каления, заставляя их как бы прочувствовать всё то, что носит в себе истерик в своём положении бессильной злобы, и игры с огнём, которые метафорично отражают накопившееся в истерике стремление всё уничтожить. Какой бы вариант производства насилия не выбрал истерик, важно понимать, что эти действия имеют один единственный смысл — освободиться от влияния матери, почувствовать «вкус свободы», на время вырваться из условий, в которых он обречён подстраиваться без права на ошибку и без возможности достичь успеха. Пока истерик мучает, жжёт, бьет и ломает, он воображаемым образом идентифицируется с матерью, которая, как ему кажется, обладает полнотой власти над ним, и наслаждается тем, что с точки зрения своей фантазии оказывается в той же ситуации на месте активного субъекта, а не претерпевающего. Этот мотив имеет крайне выраженный сексуальный характер, впоследствии определяя каким образом истерик будет мастурбировать, как он будет представлять себе идеальное соитие с женщиной и чего он будет бояться претерпеть от окружающих мужчин.
Любопытно, что с точки зрения патопсихологических исследований мотивы энуреза, пиромании и зоосадизма составляют т. н. «триаду Макдональда», — своего рода маркер психических процессов, по которому психиатрическая власть сегодня осмысливает детство субъектов-маяньков, т. е. серийных убийц с характерным почерком и простроенностью сцены. Их жертвами как правило выступают либо заподозренные в «проституированности» женщины либо субъекты мужского пола, демонстрирующие «девиацию гомосексуального». Всё это в совокупности может вызвать подозрение, словно маньяк — это истерик, который на определённом этапе развития своего невроза осуществил прорыв агрессии в сторону другого субъекта, тем самым претерпев катарсис и обнаружив для себя новый способ наслаждения, который затем стремился повторить. Тем не менее, я вынужден разочаровать тех кого соблазнит эта мысль: истерик способен на убийство и нанесение ран разве что в своих фантазиях, тогда как на деле его вредительство потому и выбирает целью что угодно, кроме реальной женщины, поскольку её страдания по его собственной вине совершенно невыносимы. Обратить внимание лучше на то, с каким интересом и женщины и истерики взахлеб осваивают контент в интернете, посвящённый маньякам и убийцам, особенно «сделавшим себе имя», — что подтверждает психоаналитическую истину о том, что перверт реализует то, о чём невротик только мечтает.
Вместо этого можно совершенно точно сказать, что наиболее частым диагнозом для истериков со стороны психиатрии, помимо уже упомянутых в прошлой главе неверных подозрениях в гомосексуальности, становится биполярное расстройство: несмотря на свои невнятные и неточные формулировки, оно оказывается наиболее ассоциативно близким описанием состояния двойственности между мужским и женским, в котором пребывает истерик. Истерики «выпотрошены чужими желаниями» и опустошены непреодолимой необходимостью опираться в своих действиях на появление в их жизни кого-то, кто может желать и тем самым запускать желающую жизнь истерии, что делает появление таких людей и желанным и опасным. Возвращаясь к истерии нужно отметить, что из повторения этих обрывов сцены материнского холдинга, которые вынуждают истерика задуматься о хрупкости своего положения, развивается «мечта о нарциссизме», т. е. фантазия о собственной целостности, которая не опиралась бы на мать. Агрессивное стремление избавиться от матери со временем становится таким же сильным, каким до этого было псевдолюбовное стремление её удерживать, и между ними образуется достаточно весомый внутренний конфликт, в котором истерик, как правило, стремится к компромиссному варианту, при которому ему бы удалось избавиться от матери «по-хорошему», предложить её Господину в качестве дара или уплаты дани, но при этом избежать наказания за то, что она недовольна им, т. е. каким-то образом «сохранить с ней хорошие отношения». К этому стоит отнестись ещё внимательнее, поскольку здесь наглядно просматривается характерная для истерии неспособность к отказу: он не может отказаться от матери и не может отказать матери, словно связан по рукам и ногам и не может быть активным субъектом в этой ситуации, и поэтому пытается обыграть ситуацию таким образом, чтобы мать «отвалилась» по собственной инициативе, оставив истерику в полное пользование территорию своего желания. Таким образом единственное «решение», которое такой субъект может выработать в качестве опорного: будучи изгнанным с мужской территории, он пытается изгнать женщину из женского, чтобы обосноваться в «никем не занятом» пространстве. Ключевое условие для такой операции — отсутствие прямой причастности истерика, т. е. мать должна оказаться в ситуации, когда она «избита собственным желанием» и изгнана своим внутренним побуждением, а не через принуждение со стороны истерика, поскольку оно было бы слишком синонимично эффекту отцовского взгляда.
Для реализации этого тонкого насилия истерик находит целесообразным выступить в роли единственного (эта оценка справедлива) мужского субъекта, кто готов позволить женщине делать с собой что угодно, — и делает он это с твёрдым намерением её пытки пережить, чтобы затем ткнуть её носом в свою кастрацию, стремясь своим видом вызвать у неё аналогично невыносимое впечатление. Вид его кастрации, по мнению истерика, с одной стороны является приемлемым вариантом исполнения желания угнетённой матери («месть мужчинам/отцу», компенсация за нанесённые обиды), а с другой — моментом откровения, где она увидит последствия своих неверных решений и, поразившись открывшемуся ей зрелищу, падёт ниц и окажется «избитой собственным желанием», претерпит катарсис и трансгрессирует в иное состояние. Это выглядит как попытка продемонстрировать матери, что она не нужна, — т. е. истерик пытается вести себя так, как если бы он был «целым» с дополнительным элементом в виде мстительного пренебрежения к женскому, что может прочитываться как «метросексуальность» или в рамках психологического взгляда приниматься за нарциссизм, о котором сегодня трубят из каждого утюга. Это соответствует попыткам истерички избавиться от любовной связи, которая не приносит ожидаемой компенсации за её самопожертвование, — что, как мы знаем, является её мстительным стремлением ответить отцу тем же пренебрежительным взглядом, который она когда-то испытала на себе. Однако поспешность заявлений о нарциссизме в этом случае аналогична поспешности, с которой истерика могут назначить гомосексуалом, т. к. на самом деле с нарциссизмом у него впечатляющие проблемы из-за непреодолимости женского влияния, и именно поэтому такая демонстрация своей независимости перед женщиной является симптоматичным отрицанием, попыткой побороться за себя, которая всегда заканчивается неудачно в связи с тем, что воображаемые победы на этом поле не способны открыть истерику истину его положения на женской территории в связи с сопротивлением отцовскому взгляду. Нарциссизм недостижим в той же мере, в которой для истерика остаётся невозможным дать окончательный ответ на вопрос о своей сексуальности, поскольку перспектива желать то как мать, то как не-отец всегда будет соблазнять истерика к неопределённости. Эта ситуация должна стать кульминацией псевдолюбовной линии истерика, его рыцарского подвига во имя прекрасной дамы, поскольку именно здесь с его точки зрения открывается возможность оказать «великое влияние» на женщину, — «величие» в данном случае истерик определяет именно тем, что отец (как и любой мужской субъект) на такой жест никогда бы не решился. В этом смысле истерик не знает что делать с мужской честью во всех случаях, кроме одного — ею точно можно пожертвовать ради перевоспитания женщины.
Мечта о нарциссизме становится подоплёкой для наслаждения истерика своими фантазиями, — такой невротик в любовной жизни предпочитает фантазию реальности, т. е. в основном занимается мастурбацией, воображая агрессивное сношение с женщиной, поскольку на уровне реального он на такую жестокость не способен (практика куколдизма становится частичным реальным воплощением этих мотивов). Мотив преследования женщины, описанный в первой главе, только в фантазиях может получить своё полное развитие, поскольку при реальном столкновении с желаемой женщиной, как правило, впадает в ступор и начинает вести себя крайне податливо, предлагая ей себя в качестве нуждающегося в ней беспомощного существа, просящего милости. У истерички есть аналогичный яркий мотив преследования мужчины, от которого ей нужно добиться «ясности», вызнать почему он не собирается устанавливать с ней связь. Развитие агрессии истерика в основном идёт по пути мелкого вредительства в отношении себя или окружающих, так что он может снимать напряжение и ощущать благословенную «свободу» от материнской жестокости через пакости и порчу имущества, в особенности общественного. В этом его стратегия отличается от истерички: если она тонким образом делает именно свою жизнь невыносимой, чтобы претерпевать в ожидании Господина, который обратит на неё внимание и призовёт к себе, то истерик делает себя невыносимым объектом отношений с женщиной, «залезая ей под кожу» и не давая последнего повода от себя избавиться, тем самым вынуждая её постоянно находиться в состоянии принятия решения о том, действительно ли он нужен ей или нет. Занимая место объекта желания Другого, истерик силится представить описываемую ситуацию так, как если бы он не был её инициатором и активным участником, а всего лишь «шестерёнкой», винтиком самого бытия, который ничего не решает и не инициирует, а лишь помогает исполнить божественный план. Поэтому удары по матери должны наноситься изнутри через вину, тогда как действия самого истерика должны быть оправданы количеством перенесённого ради этого момента урона и принесённой пользой.
Мать/женщина должна быть замучена виной и морально преобразиться, и это будет уникальным даром, который никогда не преподнесёт ей мужчина, который с ней «просто спит». Поэтому истерик — это всегда персонаж, который платит проститутке, чтобы оставшись с ней наедине сказать «ты не должна этого делать». Так мотив агрессии к женщине соединяется с описанными ранее рыцарством и психической импотенцией истерика, предпочитающего скорее образ дамы, чем её тело, или же предпочитающий её тело только в той мере, в которой она бы сама этого хотела. В этом смысле истерик не ищет внутри женщины фаллос другого мужчины, — скорее он спит с ней, чтобы у неё «всё было хорошо», т. е. осуществляет холдинг, чтобы она не переживала по поводу своей достаточности как женщины (могла красоваться собой в постели). Женщину он оставляет кому-то другому, а своей вотчиной считает женское желание, которое интересует его как территория для «великих деяний». В этом смысле истерия представляет собой осуществление немецкого романтизма в жизни субъекта, вторжение этих возвышенных мотивов в речевую реальность и их дальнейшее отыгрывание. «Проституированное» в женщине должно быть исправлено, поскольку это измерение привлекает других мужчин в на территорию её желания и затрудняет холдинг со стороны истерика, если женщина постоянно соблазняется на тех, с кем он не сможет конкурировать в силу своего статуса изгоя. Истерик пытается тонко подвести мать к осознанию того, что она «не справилась со своими обязанностями», — например, показывая ей, что она плохо или неправильно удовлетворяет его потребности из-за наличия проституированной компоненты, что значит, что если она хочет остаться целым существом, каким её видит истерик, то ей следует отказаться от «греха» в себе и обратиться к истерику за советом и ориентирами к исправлению своей жизни. Именно в этом смысле предложение Винникотта матерям выглядит как реализация фантазии истерика, в которой мать сама руководствуется подходом, который истерик пытается ей инвазивно внедрить. Мужчины/отец определяются истериком как «злые» по отношению к женщине, использующие её личность и тело, тогда как сам истерик видит себя «добрым» и стремится окружить женщину такой степенью заботы, на которую, никогда не была способна даже его собственная мать.
Теперь его позицию «альтернативы отцу на неясных основаниях» можно определить следующим образом: истерик преподносит себя матери (а затем и женщине) в качестве того, кто любит её 1) так, как мужчины никогда не будут любить женщину, и 2) так, как его мать только могла бы любить самого истерика, если бы её жизнь не была испорчена «плохим мужским отношением». Если 1) Дон Жуан, как олицетворение женского мифа, любит женщин по-женски, беря их «по одной», то 2) истерик делает гораздо больше, поскольку он любит женщину не только так, как его мать только предположительно могла бы любить, если бы её жизнь не сложилась столь несправедливо, но и так, как классический мужчина любить не способен, поскольку это потребовало бы от него перестать быть мужчиной, так как 3) мужская позиция, несмотря на такую же возвышенную ориентацию в любви, гораздо более эгоистична и стремится к обладанию женщиной, нежели к закланию себя во имя исполнения её чаяний. Дон Жуан к такому закланию не готов, поскольку он никогда не «теряет головы» с женщинами, — это условие взятия их «по одной», — а субъект мужского фантазма голову от женщины, безусловно, теряет, но аналогично не готов к закланию, поскольку это означало бы потерю места в символическом, а с ним и потерю самой возможности претендовать на женщину. Можно сказать, что Дон Жуан — это тот, кто нужен женщине в рамках её мифа, мужчина — это тот, кому и одной женщины много, истерик — тот, кому всех женщин всегда мало, а одной женщины, с которой он образовал связь, — невыносимо много.
Без сомнения, в указанном здесь смысле истерик является живым воплощением романтического героя, — литературного персонажа, который прописан для воплощения женских чаяний и является тем, с чем женщина может солидаризироваться, идентифицируясь. Можно заметить, что почти каждый описанный выше и в последующем жест будет так или иначе походить на попытку субъекта свести своё бытие к образу, который имеет жестко прописанную структуру и тропы для реализации, — тропы, которые нигде, кроме большой литературы, не обнаруживаются. Возвышенный настрой, анти-шовинизм и жертвенное поведение во имя высших ценностей, театральный драматизм и презрительное отношение к мужской территории, на которой литература, как известно, не в почёте, — все эти и многие другие маркеры указывают на то, что расположение субъектности истерика на территории женского желания возможно только через идентификацию с литературным персонажем, который изначально для женщины создан и действует в ожидании её восхищения. Отличие от героя романа заключается в том, что истерик таким образом пытается вызнать секрет фаллоса у женщины, как если бы в момент её восхищения/оргазма она была достаточно открыта для того, чтобы он мог в очередной раз просканировать её и подсмотреть что такое фаллос и как его можно заполучить. Другими словами, истерик — это тот, кто сначала всеми силами пытался стать персонажем книги, а затем, обнаружив, что это не принесло ожидаемого успеха, ищет способы покинуть её страницы, обманув свою главную читательницу. Пожалуй, важно, (и из текста это следует) что такой способ прикрепления к женскому желанию доступен истерику совершенно без знакомства с литературным наследием: напротив, это знакомство не требуется и даже вредно, поскольку оно могло бы подсказать ему истину его положения, тогда как истерик действует в своей жизни так, как если бы он был литературным персонажем именно потому, что оказывается в этом положении насколько это возможно естественно, без опосредования реальным чтением поскольку всё необходимое уже содержится в женском желании. Если литература является продуктом, на страницах которого женщина встречает искомого ею (не)мужского персонажа, то истерик становится способом производства этого персонажа «в жизни», т. е. попыткой воплотить то, что литературные персонажи говорят и проживают так, как если бы их переживания соответствовали реальному положению дел, а не женским чаяниям.
В этом смысле позиция истерика является радикально-феминистской (про-женской), структурно гораздо радикальнее той политической повестки, которую транслируют представители фем-сообщества, низвергающие патриархат или оправдывающие бесконечными аргументами особую роль женщины в социальных процессах, которая делает её не-обходимой и заслуживающей большего (или справедливого, соответствующего правильно оценённому вкладу). В подходе политически оформленного феминизма сохраняется ориентация на соревновательный момент через указание на образец, т. е. по сути попытка подойти с мужской стороны к вопросу женского освобождения. В отличие от этого деколонизационного реваншизма истерик в рамках личной инициативы психический анти-шовинист и занимает максимально, насколько это вообще возможно, про-женскую позицию, обозначая её на том уровне, на котором феминистки (при всём уважении к их труду и упорству) оказываются крайне редко и как правило не могут предложить такой же самоотдачи и самопожертвования другому, как это делает истерик: пока они доказывают и объясняют как надо действовать, истерик живёт так, словно его жизнь посвящена реабилитации женского. Даже в отношениях с ним женщина свободна от него, как от мужчины, на основе желания которого она могла бы «неверно идентифицироваться» и оказаться использованной, — что делает его ближе к про-женской позиции, чем самих феминисток, которые предлагают женщине новые варианты «правильной» идентификации. По этой причине он и вынужден рано или поздно столкнуться с импотенцией особого рода, — т. е. с импотенцией на женской стороне, о которой я говорил в первой главе этого материала, поскольку она и является источником возникновения измерения, которое обычным мужчиной оказывается невзысканно и в котором по этой же причине располагается истерик: он будет нести на себе как страдания литературного персонажа, которого пытается воплотить, так и эффекты, связанные с занимаемой позицией в символическом. Хотя женщина продолжает быть для него сексуальным объектом, позиция литературного героя в своём пределе требует «не пользоваться» женщиной, поскольку пользоваться этим персонажем должна она и ради неё вся эта сцена изначально задумана, — а для истерика удержание женщины возле себя в роли щита от Другого гораздо важнее сладости сексуальных утех.
Охранный статус женщины имеет место, поскольку она предложена истериком в дар Господину, — пока Он наслаждается женщиной, истерик может не бояться стать «невестой Другого» и не испытывать гомосексуального сопротивления. Женщину используют вместо истерика — и показательно, что такое соположение обнаруживается во всех приведённых сегодня случаях. Инцел оставляет женщину Господину и пребывает в скорби по утраченному объекту, который мог бы сделать его жизнь полноценной, т. е. избавить его от агорафобического торможения, не позволяющего ему реализоваться в социуме. Куколд оставляет женщину другому мужчине, — поэтому наслаждение, которое он получает, связано как с тем, что женщина в этой сцене управляет его наслаждением, поскольку он делает то, что могло бы укладываться именно в координаты её желания, как литературный персонаж, поступающий в манере, в которой обычный мужчина никогда бы не поступал. Рыцарь не прикасается к даме и «служит её интересам» так, что в этом угадывается работа на Господина: на самом деле он обслуживает Его женщину, к которой ему никогда не получить доступа как к сексуальному объекту, т. е. жить долго и счастливо она будет с кем угодно, но не с рыцарем, честь которого не позволит прикоснуться к реальной женщине. Можно заметить, что здесь недвусмысленно проглядываются авраамические мотивы обращения с женщиной, так что фигуру рыцаря можно вполне развить до монаха, — с учётом той роли, которую ордена рыцарей-монахов сыграли в культурной истории, можно более чем предполагать, что такое соположение не будет полностью случайным. Все эти фигуры имеют дело с несуществующим идеалом фаллической женщины, пребывающей в представляемой истериком полноте и отсутствии кастрации.
В этом смысле мы могли бы рассмотреть случай Шрёбера и психоз в целом как предельную реализацию того, от чего истерик защищается: там, где истерик вместо себя предлагает Господину заменитель в виде символической женщины, психотик предлагает себя, поскольку знает, что от желания Другого уже не скрыться, а Ему, с точки зрения воображаемого, нужна только женщина — в том виде, в котором она представлена мужским фантазмом, т. е. вечно наслаждающееся своим телом существо, предлагающее себя для наслаждения Господину. Можно даже предположить, что психотик— это тот, кто верит в существование женского аналога отца первобытной орды: таким существом по мнению Шрёбера он сам и становится в итоге, и только поэтому он видит необходимость найти себе соответствующую пару в виде Бога, который единственно может соответствовать достигнутому им самим уровню женского идеала. Истерик же останавливается в своих психических операциях на необходимости для женщины иметь фаллос, который делает её целой и повелевающей, но не возвышает на уровень величия, который имел ключевое значение для Шрёбера.
Волшебное моджо, увечье и работа на Господина
Не секрет, что истерик с раннего детства предпочитает обитать в девичьих компаниях, либо полностью игнорируя мужское братство либо пробавляясь несколькими близкими друзьями-мужчинами, отношения с которыми устроены иначе, чем в классической мужской компании, — в них отсутствует «шовинистическая конкуренция». Отсутствие шовинизма представляется истерику ключевой чертой, отличающей его от представителей мужского братства, его уникальным качеством, за которое он заслуживает признания, — таким образом он проводит различие между собой и «остальными мужиками», точно так же, как истеричка отличает себя от «бабёнок» через демонстративное пренебрежение к женской нехватке. Этот анти-шовинистический мотив, развитие которого было описано в прошлой главе, в дальнейшем станет подспорьем для более поздних проблем истерика, с которыми он нередко приходит в анализ, — «отсутствием мужественности» и «низкой самооценкой». Теперь, когда расположение истерика относительно женского определено, можно развернуться к той части его бытия, которая остаётся на мужской стороне и зачастую становится гораздо более активной на этапе жизни, когда в конце концов найдя себе женщину, которая предложит ему приют в своём желании и вступит с ним в брак, и основательно разочаровавшись в своих попытках её переделать истерик начнёт предпринимать робки попытки обучиться мужской науке. Заслуживает описания как само этот переход от бытия на женской территории к возвращению в мужское братство на иных основаниях, так и варианты позиционирования истерика на мужской стороне, которые также будут отголосками уже обозначенных бессознательных операций.
Я попытался показал, что женщина нужна истерику не для собственных утех, а как щит от Другого: пока она наслаждается воплощённым героем романа, истерик может спокойно дышать, не застревая в тревоге. Постепенно его холдинг из одержимости женщиной как единственным надёжным способом иметь опору в жизни, для укрепления которой из неё необходимо удалить всё «проституированное», сменяется смирением перед этим измерением и принятием того факта, что «плохая опора лучше, чем никакой». Провал перевоспитания приводит к необходимости довольствоваться тем, что есть и сообщаться с той стороной женщины, которая соответствует ожиданиям истерика, вместо того, чтобы пытаться победить и переделать сторону, которая не поддаётся его усилиям. Эти трансформации чаще всего происходят с истериком в браке, поскольку эта форма холдинга позволяет произвести достаточное количество попыток, чтобы заметить непреодолимость «изъяна» в женщине: вместо её исправления, которое изначально являлось попыткой произвести сильный жест, он приходит к обратной возможности усилить расщепление внутри неё. Таким образом вместо отказа от женщины истерик начинает делить её с Другим, «сдавая в аренду» ту её часть, которая является неисправимой и проституированной. Обмен женщиной не предполагается, поскольку уникальная роль истерика в её жизни должна именно женщине подсказывать необходимость держать истерика возле себя и не покидать его даже при возможности побыть с Господином, а точнее — всегда возвращаться к нему как к незаменимому объекту. Эта «сдача в аренду» Господину предполагает, что с другой, своей правильной и пристойной стороны, женщина должна быть полностью обеспечена и не иметь никакой нехватки, — т. е. единственное, чего ей должно не хватать, это Господина, с которым истерик не собирается конкурировать и которому он готов отдать женщину без сопротивления. Таким образом для истерика простраивается тропинка по обслуживанию чаяний женщины: обеспечивать её «счастье» — значит быть в милости у Господина, потакать его нехватке и тем самым иметь возможность претендовать на место под солнцем и освобождаться от перспективы стать «невестой Другого».
Так истерик может уклониться от требования Другого, подставляя под него вместо себя женщину-с-фаллосом, но уклониться лишь для того, чтобы занять место обслуживающего персонала и следить за пригодностью женщины для Господина. Истерик облагораживает женщину не для себя, — она должна жить привлекательной жизнью и обладать привлекательной внешностью исключительно для того, чтобы на её фоне он мог скрыться от взгляда Другого. Важно здесь то, что возможность «скрываться на виду» в такой манере является результатом упорного психического труда истерика и даётся ему большими жертвами своего «красования», его любимой линии поведения в течение долгого времени. Не выделяться, быть почти «обычным» — для истерика значит не иметь возможность претендовать на возвышенную любовь, поэтому самостоятельное лишение себя этой перспективы и уступка её женщине (лишь бы не стать «невестой Другого») является следствием самостоятельных неудачных попыток излечения своего невроза, в результате которых истерику удаётся добыть себе относительно спокойную и обеспеченную жизнь, если он соглашается признать полную зависимость от женщины вместо того, чтобы признать Другого. Женщина становится медиатором между ним и мужским братством, выполняя ту самую функцию «контейнирования и очистки», которую Винникотт насаждал матерям: она «очищает» гомосексуальное наслаждение, обеспечивая безопасный обмен истерика с представителями мужской науки.
Если задача «обзавестись женщиной» более не стоит, что в рамках истерического фантазма означает частичное выполнение возложенной на себя в детстве миссии, то истерику приоткрываются перспективы частичной реализации в мужском братстве, которая связана с погружением в ситуацию «отсутствия мужественности», связанной с тем, что истерик вытирает ноги об отцовский я-идеал. Соответственно, можно сказать, что (даже если) некоторый уровень признанности женщиной оказывается достигнут, то признание на уровне мужского сообщества, в рамках которого истерик ощущает себя «изгоем», по-прежнему не даётся, но при этом, в отличии от обращения с женщиной, на мужской сцене сам путь достижения признанности для истерика остаётся загадочным и недоступным, как если бы он не знал на что ориентироваться и по каким правилам играть в эту игру. Однако дело не в том, что истерик совсем не понимает правил мужского сообщества, но напротив, он позиционирует себя противником этих правил (анти-шовинизм), поскольку ему нужно расположиться на территории женщины. Если убрать из этого уравнения компоненту «расположенности», то противопоставление мужскому сообществу сохраняется вместе с потребностью получения признания путём, который был бы «не шовинистическим», — истерик ищет компромисс между противоборством мужскому и стремлением присутствовать на мужском поле на альтернативных основаниях. При таком расположении сохраняется описанное выше гомосексуальное сопротивление, требующее от истерика реагировать на то, что прочитывается им как «вторжение я-идеала отца», обнаружение себя захваченным мужским взглядом или речью и переданным в распоряжение его прихоти, — т. е. угроза стать «невестой Другого». Потребуется предварительное рассуждение, чтобы проанализировать как именно истерик приходит от безудержного красования к поиску волшебного моджо, посвящая свою жизнь общению с разного рода «гуру», которые имеют доступ к измерению возвышенного, от которого истерик отказывается ради женщины.
Прежде всего стоит вспомнить сказанное Фрейдом и его коллегами военными врачами о т. н. «неврозе войны», суть которого кратко формулируется как «травматизация Я субъекта нахождением в ситуации постоянной опасности в условиях боевых действий». Этот весьма важный исторический и ситуационный контекст военных действий, который не следует умалять, тем не менее, должен быть адекватно аналитически истолкован, поскольку, как мы хорошо знаем, обычно такие указания интерпретируются в романтическом духе: словно нам пытаются сказать, что военные действия сами по себе производят настолько уникальные эффекты, которые травмируют субъекта на каком-то абсолютно недоступном более нигде и никогда уровне переживания, что для работы с ними требуется отдельная дисциплина и отдельный вид специалистов, которые чуть ли не сами должны пройти крещение боем, чтобы понять такую «травму». Следует полагать, что мы имеем дело с метонимией, где обстоятельства на поле боя лишь повторяют устройство сцены, которая для невротика определённой организации оказывается невыносимой, в связи с чем он переживает не уникальный опыт, с которым не справляется в силу неподготовленности, а напротив, реагирует на то, что уже есть в его бессознательном — т. е. на то, к чему он и не собирался готовиться и избегал встречи этой встречи всеми доступными способами.
Признаки такой «травматизации», как известно, заключаются в особенно демонстративном поведении субъекта на поле боя: там, где следовало бы пригнуться и не высовываться, ему, напротив, хочется продемонстрировать себя, быть «не как все» его сослуживцы, например, показать с каким смелым выражением лица он встречает артиллерийский обстрел или с какой жалостью он оплакивает только что павшего товарища и какие невыносимые муки ему приходится переживать при виде погибшего собрата. Поведение такого субъекта напоминает играющего в войнушку мальчика, поскольку весь смысл войнушки заключается в театральном разыгрывании реакции на смерть, на потери, на угрозу жизни и т. д. — и эта театральность, как можно догадаться, совершенно не вписывается в происходящее на реальном поле битвы, поскольку такой «театрал» буквально является первоочередной целью для противника в связи со своей неуместной демонстративностью, он привлекает к себе избыточно-опасное количество внимания, — как в примере с переходом через дорогу из третьей главы. Переживаемые таким субъектом страсти как бы сошли со страниц военного романа, в котором рассказчик описывает ужасы войны в качестве стороннего наблюдателя, тогда как, очевидно, те, кто в этот момент находятся в гуще описываемых «ужасов» не могут позволить себе роскошь романтически-возвышенного настроя на происходящее, — что в каком-то смысле означает, что такой субъект-театрал скорее находится не на поле боя, а на страницах книги. Или, точнее, характер его дезориентации относительно окружающей действительности таков, что он подменяет возможные реальные переживания их книжным аналогом и в соответствии с нарративом реагирует на происходящее как реагировал бы персонаж романа, — словно находится в двух местах одновременно, и там, где нужно реагировать, и там, где он сам смотрит на себя со стороны и восхищается видом такой реакции.
Несомненно, так можно описать положение истерика на мужской территории: постоянный страх за своё неустойчивое положение (страх «оказаться геем», «быть избитым»), необходимость скрывать свою дезориентированность и быть готовым в любой момент «извиняться» за её обнаружение окружающими и одновременно попытки театрализованного отыгрыша возвышенного мужского персонажа, как того, кто «на этом месте был бы уверен» (согласно литературным представлениям), — уверенность эта, как видно, черпается из того, что такому персонажу будет симпатизировать женщина. Театр военных действий, как мужское пространство, в таком случае оказывается всего лишь одной из возможных сцен с условиями, попадая в которые истерик вынужден претерпевать всё описанное выше, — аналогичные переживания возможны в мужских раздевалках, на спортивных секциях и в прочих ситуациях (даже при встрече со смехом мужской компании на улице), организованных по принципу циркуляции гомосексуального наслаждения в мужском братстве. Срабатывание здесь гомосексуального сопротивления вынуждает истерика назначить себя «преданным своими», однако если для заботы о женщине ему нужно вновь вернуться к мужскому братству, то перед истериком встаёт вопрос преодоления сопротивления и завладения такой позицией или «достоинством», благодаря которым из него более невозможно будет извлечь удовлетворение другому мужчине. Поэтому дальнейшее развитие мужской истерии будет связано с попытками воспроизвести описанные ранее психические операции на мужской территории, что потребует от истерика обратить их уже не на женщину, а на самого себя, как если бы теперь он сам мог стать объектом тех жестов, которые ранее с его точки зрения имело смысл адресовать только женщине. Такой ход оказывается возможен и даже предопределён постольку, поскольку изначальная драма истерика связана со столкновением с деформированным отцовским желанием, — так что не удивительно, что в место этого столкновения он будет жаждать и окажется способен вернуться в том случае, если будет уверен в наличии «женского восхищения» в своём распоряжении, которое при этом не может удовлетворить его чаяния в поисках фаллоса.
Эта неудовлетворённость несмотря на воображаемую победу, которая и является определением невротической неудачи в символическом, и подталкивает истерика к «реваншу с отцом», т. е. к возобновлению попыток закрепиться на территории мужского братства в манере, которая сможет преодолеть имеющееся серьёзное неудобство. Вариантов преодоления этого неудобства и продвижения к признанию (или хотя бы спокойному обитанию в пределах) мужского братства у истерика при его дезориентации не много, поскольку требование прикрываться женщиной от посягательств Другого сохраняется, не позволяя вырабатывать стратегии, которые бы не учитывали это.
Первый вариант такого жеста — это попытка вновь «вести себя как тот, кто был бы на это месте уверен» с явным вдохновением романтическими литературными нарративами и воображаемым в целом. Сложность этой стратегии связана с тем, что для её воплощения необходим мужской образец, однако попытки заместить отца другой мужской фигурой, которая воспроизведёт жест отцовского паса, наталкиваются на то же сопротивление, поэтому истерик избегает ситуаций, где, как ему кажется, поставленный на место отца субъект «воспользуется властью» для своего удовлетворения, например, с целью обогащения или обычного садистического удовольствия от обозначения своего превосходства и т. д. В этом смысле истерик обнаруживает себя существом, которое с одной стороны ищет авторитетов и постоянно заискивает перед ними и выказывает готовность склониться даже сильнее, чем мужчина перед отцом, — поскольку ему всё ещё нужно больше, чем мужчине от отца, — а с другой в тот самый момент, ради которого всё и затевалось, чтобы заиметь возможность претендовать на получение паса, истерик реагирует презрением и ускользанием, поскольку прочитывает происходящее как попытку надругательства над ним и тонкое унижение. Преодоление этой ситуации отдаётся на откуп воображаемому, где «недостаток мужественности» и презрение к отцовскому я-идеалу перекрывается стремлением всё же заполучить в своё распоряжение то самое «мужское достоинство/мужество/силу», с (невысказанными) жалобами на недостаток которых истерик нередко приходит к пси-специалистам, на тренинги по саморазвитию, в тренажёрный зал, на спортивную секцию и т. д.
Поскольку путь в символическом для получения эдипальной грамоты истерику заказан, он вырабатывает окольный путь через воображаемое, в котором формируется фантазия о «передаче силы». Я говорю о тех многочисленных вариантах истории о волшебном моджо, которое внезапно находит своего единственного достойного обладателя («избранного») и позволяет ему повелевать происходящим вокруг него и влиять на жизнь так, как обычные люди не в состоянии. Важно, что эта фантазия ортогональна классической тематике «силы», которую можно встретить, например, в народном творчестве, т. е. существует различие между силой классического мужского персонажа-воителя и «силой» героев «Звёздных войн» и К. Кастанеды. Это различие заключается не в соревновательном сравнении силы по какой бы то ни было измеряемой характеристике, — подсчёт и измерение, отсылающие к анальному регистру, в фантазии истерика не найдут себе места, — а в сопутствующем мотиве «избранности», исключённости из большинства: для условного джедая или волшебника из мира Гарри Поттера обладание местным аналогом силы — ключевой показатель его идентификации, который полностью изымает его из мира обычных людей, делает его «Мэри Сью» или «Бэтменом» среди простых смертных. И дело вовсе не в том, что неудобство избранности является сопутствующим эффектом обладания «силой», формой расплаты (такое оправдание нередко есть внутри сюжета) за обладание сверхчеловеческими способностями, о которых никто не просил: напротив, именно «избранность» составляет невысказанную основу для повествования о герое и построения сюжета, тогда как «сила» ей подчинена и служит рационализацией для оправдания мотива исключённости из общей массы — что, разумеется, совершенно не свойственно классическому «сильному» персонажу, поскольку в его случае об избранности просто нет никакой речи, нет акцентов в тексте, педалирующих уникальность в указанном выше смысле.
Однако, как было показано выше, мотив избранности с завидной частотой обнаруживается при анализе положения истерика, которому для устойчивого бытия необходимо объяснение характера своей исключённости из мужского множества, поэтому истории о силе/магии/сверхспособностях и их аналогах являются результатом работы истерической фантазии, которая затыкает нехватку в символическом и дарит субъектам истерии ощущение целостности, обоснованности своего не вполне удобного и местами драматичного положения. Этим объясняется популярность обслуживающих такую фантазию сюжетов и массовый спрос на них, поскольку они являются продуктом действия истерии на поле литературы и других форм искусства и хорошо укладываются в представления истерика о самом себе, флиртуя с ним и придавая ему уверенности. Сюжетной подсказкой к истерическим мотивам также следует считать буллинг, т. е. важный акцент в произведении на издевательствах со стороны окружающих, часто шовинистических или маскулинных персонажей, которые доставляют главному герою массу неудобств и делают его жизнь невыносимой вплоть до момента, когда его, например, кусает радиоактивный паук, и благодаря переданному таким образом моджо он в первую очередь по сюжету расправляется с обидчиками. Эту фантазию истерик нередко воспроизводит в своём анализе, если ему удаётся преодолеть неудобство и высказать свой страх перед окружающими «сильными мачо-мужчинами» и «женщинами-консерваторами», — мотив буллинга указывает на сопутствующий страх «стать невестой Другого». Буллинг как показатель исключённости из стандартной фаллической перспективы обретения пола путём истерической переработки преобразуется в показатель избранности, изначальной предназначенности истерика для более важной миссии, путь к которой усеян страданиями, знакомыми ему по истории отношений с матерью. Анти-шовинизм истерика делает его «неконфликтным» персонажем, а если быть точнее, — неспособным к драке в связи с опасностью оказаться слишком близко к перспективе становления отцом, и поэтому волшебное моджо становится компромиссным вариантом решения этого конфликта: моджо оставляет истерика возле женщины, но наделяет «силой» отцовской стороны.
Этот жест можно определить как стремление находиться «на хорошем счету» у Господина и за счёт этого не опасаться немилости с его стороны: в отличие от истерички, истерик хочет не отобрать себе «безраздельную власть», которой по его мнению обладает тот, кто угрожает ему безобразной безнаказанной расправой, но напротив, приобрести некоторую ценность, которая совпадает с его мечтами о нарциссической полноте, равнодушной к внешним и внутренним требованиям. Здесь разворачивается мотив, который в случае женской истерии связан с диалектикой чистоты и грязи: истеричка переживает присвоение воображаемого пола как символическое загрязнение, поскольку пол, как знак различия, вносит двусмысленность и становится препятствием для того, чтобы целиком раствориться в позиции объекта желания Другого. Любовь должна быть «чистой», чтобы было возможно слияние, тогда как любое различие вносит смуту и загрязняет, вынуждая истеричку прятать своё Я и паранойяльно искать способы очищения своей репутации, поскольку в глазах Другого она всегда недостойна, замарана — ведь её пол не позволит Ему желать без ограничений и обнажит Его кастрацию. В случае истерика этот мотив выглядит как диалектика присутствия/отсутствия «мужского начала», которое точно так же требует от него регулярной паранойяльной заботы о том, чтобы «мужественность» флюидообразным образом наполняла его, поддерживая ощущение уверенности, но не подвергая риску быть использованным. Этот мотив вместе с мотивом избранности формирует в мужском субъекте истерии особый вкус к эзотерике и «потустороннему», иногда в тяжёлой форме, которая делает его постоянным клиентом магов, ведунов и психоделических шаманов, мистиков, гуру саморазвития и пси-специалистов с изюминкой.
И необходимо вновь провести различие с обсессивным невротиком, который, как известно, «на короткой ноге с Богом», т. е. ощущает себя прежде других удостоенным личного внимания божества (которое затем переходит в ощущение несправедливой покинутости богом). Это различие проходит по ранее намеченной линии «истерик — затычка нехватки», отделяющей истерика от мужского множества: если классическая передача паса в связи с реакцией гомосексуального сопротивления невозможна, то Бог истерика — это «добрый Господин», с которым можно выстроить «чистые» отношения по мужскому образцу, в которых истерику не нужно переживать, что его «используют». Обсессивный невротик в этом вопросе не заинтересован именно в «отношениях», но напротив, скорее хотел бы правильным образом подобраться к божеству путём безупречного следования процедуре, чтобы добиться исключительного признания и затем обозначить свою полную независимость, — поэтому на разных этапах развития своего невроза он мигрирует от позиций христианской прелести до полного разочарования и неустанного подозрения божества в том, что оно неверно и аморально пользуется своим властным положением. В этом смысле эзотерическая/религиозная/мистическая сторона жизни истерика представляет собой своего рода отдушину, воображаемое разрешение его неудобств, которое может быть достигнуто путём «впитывания силы» через особые практики. Этим объясняется повышенный интерес истерика (особенного устроившегося в жизни) к самым дремучим суевериям, к поиску «мест силы», которые должны особым образом на него повлиять («наполнить» его), в общем — к любым современным аналогам литературной магии и комиксной «суперсилы». Всё это хранится в неведомых местах, узнать о которых можно лишь по слухам, и ждёт того часа, когда преисполненный решимости «избранный» достигнет этих мест и «наполнится их силой», — как правило, наполнится на ближайшие полгода-год, после чего потребуется «подзарядка».
Для постоянного сообщения с этим измерением истерик формирует ритуальную составляющую своего бытия, связанную с магическим мышлением и стремлением «привлечь силу в свою жизнь и удержать её чистым поведением», — что зачастую до того напоминает обсессивного субъекта, что может смутить при диагностике. Ориентирами здесь будет описанное в предыдущем абзаце различие, которое в том числе указывает на то, что истерик, в отличие от обсессивного невротика, не собирается со своим божеством и ритуалами расставаться, — волшебное моджо нужно не для того, чтобы полностью избавиться от влияния Господина, а для того, чтобы выстраивать с ним отношения без страха, т. е. не бояться быть использованным, заиметь в своё распоряжение нечто такое, что не позволит использовать истерика как объект мужского шовинистического удовлетворения. Поэтому большинство ритуальных практик истерика несут в себе этот мотив «не-насилия» или отсутствия шовинизма, бережной заботы и полного принятия, как если бы он стремился показать Господину пример того, как следует обращаться с ним. Вегетарианство как «не-насилие» над животными, пацифизм, отказ от защиты себя, «любовь к миру» вместе с употреблением психоактивных веществ, которые не так давно нашли своё выражение в культуре хиппи, — всё это способы истерика заявить о себе миру, демонстрация своего сексуационного отличия от «шовинистического мужлана», в котором важнее «искреннее отношение», а не ритуальная и интеллектуальная составляющая. Знаменитая сцена, где хиппи помещает цветок в дуло солдатского ружья, провозглашая силу любви и приглашая «строить новый, лучший мир», — это идеальный образ фантазии истерика, которая может сохранять устойчивость только в рамках воображаемого, полностью разламываясь при соприкосновении с реальным. Неслучайно в таких областях циркулирует притча о «невыразимости» происходящего в возвышенном измерении, что означает, что истерику трудно дать уверенный ответ по какой причине он не ест мясо или делает асаны, так что вместо этого он предлагает «прочувствовать» окружающим тот же опыт, словно это «искреннее чувствование» даст ответы на все вопросы, — так становится понятно, что перед нами именно затычка, поскольку её полное объяснение или описание угрожало бы потерей функциональности.
В этой фантазии особое значение имеет элемент, который отсутствует в отношениях истерика с мужским братством, — «зов» или «воззвание», просьба о передаче силы, которая в связи с гомосексуальным сопротивлением не может быть обращена к авторитетным мужским субъектам, но может быть обращена к Богу истерика, поскольку от него «не ждут зла». Примером такого воззвания является молитва — буквально обращение к хорошему Господину с просьбой повлиять на судьбу, выполненное в ритуальном формате с использованием «особого языка», позволяющего правильно обратиться. Этот возвышенный язык является тем, что истерик стремится публично не выговаривать, боясь как «остаться непонятым», так и «быть неправильно понятым», т. е. вызвать подозрения на свой счёт в том, что он «другой», не как все. И язык, и ритуал, — это то, что нужно Господину истерика, поэтому проделывая эти вещи он ощущает свою полезность и угодность, отрабатывая немилость и надеясь на благосклонность. Интересно, что приемлемой противоположностью в рамках этого подхода будет поклонение «злому Господину», — т. е. различные варианты оккультных и отвергнутых учений, заигрывающих с духами, чтобы тем самым выразить своё разочарование в «добром Господине» и продолжить претендовать на волшебное моджо. Этот мотив почти без исключений обнаруживается в анализе истерика, т. к. на определённом этапе жизни его начинает интересовать разного рода дьявольщина, мистика, психоделия, трансовые состояния и прочие достаточно модные сегодня эзотерические штучки, предлагающие свой путь к овладению «силой». Иногда истерик готов демонстративно занять позицию «дьявольского адепта», как если бы это требовалось для перехода на нарциссический уровень его бытия, поскольку в рамках таких учений нередко присутствует мотив желанного «надругательства над женщиной», соблазнительный для воображаемой жизни истерика.
Итак, первым способом самостоятельного преодоления своей нехватки в мужском для истерика становится попытка реализовать фантазию об обладании волшебным моджо, которое освобождает от страха перед мужчинами, частично от страха перед властью женщины и мирно разрешает вопрос с Господином, поскольку для истерика крайне важно воображаемым образом сохранять женщину не-кастрированной и не становиться для неё «шовинистическим Другим».
Второй вариант является следствием усиления гомосексуального сопротивления, которое направляется истериком уже на свой воображаемый пол и становится необратимым жестом насилия в отношении себя, что можно было бы назвать кастрацией, если бы это слово уже не было занято в аналитической традиции, — поэтому я буду говорить «увечье», чтобы их различать, т. к. истерик делает это будучи уже кастрированным на уровне желания существом. Этот жест следует рассматривать отдельно от всего вышеизложенного, поскольку условия для разных его вариантов появляются как при наличии у истерика щита в виде отношений с женщиной, так и при их отсутствии, — однако чисто риторически мне было удобно поместить увечье в эту главу, поскольку наиболее распространённая его «мягкая» вариация встречается именно у зрелых истериков, чей невроз развился до нужного этапа.
Увечье — это реализация истериком описанного в прошлой главе жеста насилия, которое я определял как «направленное вовне», по отношению к себе, — такой поворот становится возможен именно в связи с тем, что истерик начинает действовать на мужской территории. Это демонстративное насилие над собой на глазах мужского братства, своего рода «вторая кастрация», преследующая цель избавиться от того, что может быть попрано или унижено, т. е. использовано другим мужчиной для удовлетворения. Основной мотив увечья — освобождение от Господина. Здесь можно провести различие с жестом судьи Шрёбера, который в вопросе устранения из себя мужского начала заходит гораздо дальше истерика ровно по той причине, что в психозе воображаемое ничем не сдерживается, тогда как для истерика как субъекта невротической организации символическое сохраняет своё значение и не даёт почву для трансвестизма на шребёрский манер. Вместо этого истерик наносит себе увечье, которое можно смело ассоциативно сближать с монашескими практиками самобичевания и скопчества: в отличие от психотика ему важно не стать более привлекательным для Господина, а напротив, сделать себя наименее видимым с точки зрения сексуальности существом, устранить вносимое полом различие, которое угрожает ему гомосексуальным изнасилованием со стороны Другого. В истерии желание Другого не найдено, поэтому акцент делается не на становлении той самой воображаемой женщиной, а на становлении наиболее не-удобным и потому невостребованным для господского удовлетворения существом, чтобы таким образом добиться безопасности через бесполезность. В таком случае истерик становится «невинным» существом, которое нельзя обвинить в притязаниях на объект наслаждения Господина, поскольку он устранил сближающие его с этой линией признаки. Именно эта перспектива угрожает инцелу, делая его позицию столь драматичной: он, конечно, не скопец, он ещё рыцарь, но отсутствие милости со стороны женщины в его адрес при постоянно действующем гомосексуальном сопротивлении может подвести его к тому, чтобы обратить насилие на себя в описанном здесь смысле.
С этим жестом также связано переодевание истерика в женскую одежду, нанесение макияжа, и прочие варианты перевоплощения в женщину, которые отличаются от психотической линии тем, что в мужской истерии акцент идёт не на то наслаждение, которое женщина может иметь как объект желания Другого, а на наличие у неё фаллоса, которое для истерика является непоколебимой истиной его собственной субъективации через женщину. Это провокация в стиле прогулки со своей дамой под отцовским взглядом от гомосексуальной пациентки Фрейда, своего рода вызов, который бросает истерик осуждающему его взгляду, чтобы доказать свою независимость от него. Можно предполагать, что наиболее радикальным вариантом увечья может стать трансгендерный переход, — здесь срабатывает представление об отсутствии женской кастрации, и поэтому возможность сменить пол или частично заполучить в своё распоряжении знаки женского, так что увечье становится защитным жестом истерика, который хочет обойтись без привлечения реальной женщины, своими силами. Психотик в своём трансвестизме опирается именно на образ воображаемой бесконечно наслаждающейся женщины, тогда как истерик заблуждается об отсутствии женской кастрации в символическом, и поэтому он собирается не наслаждаться как женщина, а быть целым как женщина. Для психотика женское существует как великое, на что в случае Шрёбера указывают интуиции о «глупости Бога», т. е. за своей женской позицией судья замечает гораздо больший потенциал, нежели мощь самого Господина, что в пределе может сделать определяющей фигурой самого Шрёбера, который наконец «стал женщиной» и тем самым победил Господина. Для истерика женское остаётся возвышенным, но не великим, поскольку величие навсегда зарезервировано за Господином: именно поэтому он и может наслаждаться как женщиной, так и другими прекрасными вещами, а отчуждённый от этого измерения истерик не может. Истерик-трансгендер до шрёберовских позиций не доходит, но проделывает операции над своим полом в попытках прийти к «освобождению», — что можно отчётливо услышать из уст авторов «Матрицы», которые на своём опыте проделали эти операции, предварительно промыслив их в соответствии с истерическим фантазмом о женской полноте. В то же время можно уверенно утверждать, что мужские субъекты с реальными физическими и/или физиологическими дефектами, но не занимающие истерическую позицию, могут продолжать располагаться на мужской линии и претендовать на женское в ничуть не меньшей мере, чем их собратья со стандартным набором и функционалом органов, тем самым подчёркивая определяющее значение символического над телесным.
Более распространённым и «мягким» вариантом увечья истерика является отказ от возвышенного измерения, на которое всё это время он возлагал особые надежды: такое увечье выглядит как смирение со своей «обычной судьбой» и адресовано членам мужского братства (другими словами — разочарованному отцу), которые, по мнению истерика, с уважением отнесутся к его волевому отказу и таким образом примут «за своего». Это жест рабочего, который отказывается от признания ради того, чтобы работать на Господина и отчуждать свой продукт в Его пользу за возможность располагать некоторым количеством милости и не бояться «быть использованным». Именно успешная реализация такого «мягкого увечья» позволяет истерику достаточно хорошо устроиться в жизни, занять «хлебную должность» на работе или во власти и обрести положение, которое хотя и совсем не соответствует его стремлению к признанности в качестве уникального не-мужского существа, тем не менее, позволяет не страдать от агорафобии и других страхов, связанных с пребыванием в мужском братстве. И хотя при таком подходе гомосексуальное сопротивление продолжает присутствовать, вынуждая истерика, например, предпринимать предупредительные защитные действия, которые противостояли бы взгляду на него как на не совсем мужского субъекта, тем не менее, либидинальная нагрузка на его Я кратно понижается, позволяя по крайней мере не всего себя и не все сферы своей жизни превращать в подобие защитных баррикад, т. е. степень его «личной свободы» при таком раскладе несравненно выше, нежели при сохранении ориентации на возвышенное.
В отличие от увечья в реальном, этот жест выглядит как имитация поведения представителя мужской науки, который способен умерить свои притязания, чтобы довольствоваться более надёжными вариантами, а не «летать в облаках», — и поэтому нам следует различить эти два жеста, чтобы продолжать сохранять за истериком особенность его положения. Можно подумать, что благодаря такому жесту появляется иллюзия разрешения основной проблемы развитой мужской истерии, — «взаимодействия с наставником», которое ранее было недоступно в силу воздействия сопротивления отцовскому взгляду. Однако это именно попытка скопировать, исполненная без становления представителем мужской науки, — тем самым истерик привычно действует на воображаемом уровне и для подкрепления своей позиции убеждает сам себя в её состоятельности (поэтому столкновение со смехом мужской компании может вызвать мысли о том, что истерика «раскрыли»). Правильность такого взгляда подтверждается в последействии, где обнаруживается, что отказ от притязаний на возвышенное, т. е. от возможности заполучить в своё личное распоряжение волшебное моджо, производится через проецирование сохранения этой возможности за другим, что в свою очередь становится почвой для подозрения выделяющихся мужских персонажей из своего окружения в наличии у них такого доступа. В результате истерик обнаруживает себя в окружении «удивительных незнакомцев», которые имеют связь с возвышенным измерением, что в свою очередь вызывает у него стремление сформировать связь уже с ними, чтобы опосредованно иметь возможность периодического «причастия» к возвышенному через этих особенных людей. Поэтому зрелый истерик или окружает себя или специально ищет знакомства с мужскими фигурами, чья «способность быть экзальтированным своим делом» вызывает у него неподдельный восторг, тот самый, который он сам привык вызывать своим поведением у женщин в роли романтического героя. Это могут быть как совершенно рядовые сотрудники, коллеги или знакомые, в которых истерик «увидел красоту души», так и персонажи, которые специально позиционируют себя в формате причастности к возвышенному, вроде астрологов, магов, наставников и прочих незаурядных личностей, чей профессиональный статус истерика не интересует, поскольку он производит в их отношении не вкусовую операцию, а проверяет их на близость к измерению возвышенного: его интересует искренность порыва, а не состоятельность практики. Так же важно, чтобы характер этой связи оставался тайной, и дело не в том, что истерик хотел бы сохранить какие-то вещи в секрете, а напротив, здесь действует та же психическая операция, что до этого производилась в отношениях с женщиной: его связь с ней отличается от её связи с обычными мужчинами тем, что она «недемонстративная», и потому — самая искренняя и настоящая, тем самым сохраняющая в себе нечто возвышенное. Поэтому с «удивительными незнакомцами» истерик желает сформировать такую же коррупционную связь в обход символического обмена, организовать с ними отношения большей интимной близости, чем предполагается процедурами их профессии, т. е. войти в круг приближённых такого незнакомца на неясных основаниях. Только так с точки зрения истерика у него появляется опосредованный доступ к возвышенному, поскольку такая связь основана на «чистых» благотворительных началах, хотя, как мы видим, она является именно что коррупционной в буквальном смысле, т. е. потаённой, обходящей символический обмен и претендующей на нечто большее, чем предполагается профессиональной этикой.
Для всех субъектов истерии характерно представление, согласно которому любовь знаменитости способна облагородить их жизнь, как если бы происходила передача «хорошего флюида», и поэтому истерик ошибочно представляет такие отношения как классический роман, вследствие чего жаждет взаимности, т. е. чтобы незнакомец полюбил его той же любовью, — что, очевидно, невозможно в том же смысле, в котором нельзя быть в двух местах одновременно. Здесь уже разворачиваются известные по женской истерии мотивы ниспровержения того, кто по мнению истерического субъекта имеет «слишком большой вес», т. е. обращается с важными материями и при этом ведёт себя так, словно не ошибается. Влюблённость истерика в «удивительного незнакомца» подразумевает вхождение в ближний круг исключительно для того, чтобы в дальнейшем произвести скандал и попытаться сбросить знаменитость с пьедестала, на который до этого сам истерик его поставил. Здесь можно провести различие между истериком и истеричкой: всё выглядит так, что для истерички эта операция является преобладающей и доступной почти сразу, тогда как для истерика, который долгое время занят судебной тяжбой с матерью, возможность сближаться и скандально низвергать «удивительных незнакомцев» может вообще не появиться, а если и появляется, то гораздо позже, — когда его операции с холдингом женщины становятся не актуальны. Соответственно, скандал необходим истерику так же, как ранее ему были необходимы громкие заявления о своей ориентации: это способ снять напряжение, в данном случае через разочарование в незнакомце и тем самым дисконтировать его до уровня, на котором находится сам истерик. Если истеричка в результате этой операции хочет получить в своё распоряжение падшее существо, над которым она бы могла организовать попечительство, то истерик в этом вопросе хочет только победы над тем, кто позволяет себе запретные операции с возвышенным, тогда как объектом попечительства остаётся только женщина.
В отличие от истерика, обсессивный невротик никогда не пытается войти в круг приближённых «признанного незнакомца», поскольку это означало бы солидаризацию с его аморальным способом достижения признания. Истерик же, напротив, чувствует острую необходимость заручиться духовной близостью с «удивительным незнакомцем», который, как правило, оказывается очередным шарлатаном и полным профаном в своём деле, но поскольку истерика не интересует профессионализм, то вероятная (не)компетентность выбранных им для почитания фигур полностью игнорируется, поскольку главное — мерцающее в воображаемом причастие, которое даёт чувство близости к возвышенному. Одной из таких фигур может стать и психоаналитик, — и поиск опосредованной связи с волшебным моджо может привести истерика в личный анализ или, что происходит гораздо чаще, стать зрителем аналитической сцены, издалека наблюдая за действиями психоаналитиков и воображая их возможные тайные связи с анализантами и друг с другом.
Более того, здесь можно сделать ещё одно замечание, условия для которого уже назрели: завоевать любовь своего удивительного незнакомца истерик стремится через особое обращение с продуктом признанного субъекта, поскольку полагает, что в продукте, как в контейнере, содержится тот самый доступ к возвышенному, который может быть изъят без прямого воззвания к «мэтру» и признания в своих чувствах. В каком-то смысле такое положение дел как облегчает тоску истерика по отцовскому я-идеалу, поскольку к нему образуется окольный доступ, так и с другой стороны распаляет его подавленные до того стремления предложить себя отцу в качестве особого существа, которое единственное среди всех понимает возвышенность отцовской травмы, — стремления, обрушенные отцовским взглядом. Поскольку взаимодействие с продуктом исключает прямое столкновение с взглядом его создателя, для истерика в этом пункте открывается соблазнительная перспектива реализовать свою фантазию, в связи с чем он и пытается осваивать этот продукт с особым пиететом, делая акцент не столько на реальном эффекте продукта, сколько на его символической ценности лично для него, как на объекте причастия к возвышенному. Именно здесь истерик может «обитать» достаточно долго, уклоняясь от попыток окружающих указать ему на необыкновенный характер его «хобби» и одновременно от встречи с прямым осуждением своего мэтра, которое могло бы иметь место в случае, если бы тот оценил что именно истерик пытается сделать с его продуктом.
Здесь же появляется мотив «кражи у знаменитости»: если что истерик и делает с продуктами своего мэтра, так это крадёт их в связи с тем, что ему недоступно прямое обращение, при котором могла бы произойти передача прав или принятие истерика в «ближний круг» этого мэтра: процедуры инициации он всячески избегает, стремясь заранее подготовить почву для того, чтобы ему ни в коем случае не отказали, поскольку отказ в его случае равносилен столкновению с отцовским взглядом. На самом деле имеет смысл пересмотреть подход к знаменитому в психоаналитической литературе «случаю Криса» с учётом предложенных здесь рассуждений, поскольку стремление «воровать мысли», пусть даже инвертированное в случае Криса, с дальнейшим обнаружением бессознательной связи с «не-великим отцом» (рыбалка, книги и т. д.) более чем соответствуют мужскому истерическому неврозу, — и сделать это следует вдвойне по той причине, что этот резонансный случай так и не может получить своей последней собирающей интерпретации. Когда аналитик Криса говорит «вы совершенно оригинальны, вы не воруете», эта интерпретация не срабатывает как надо ровно по той причине, что невротическая конституция истерика стоит на отсутствии самостоятельности и необходимости сопричастности с кем-то, кто вместо него подставлен требованию Другого. Признать себя совершенно оригинальным без опосредования связи с удивительным незнакомцем для истерика невыносимо, по крайней мере до прохождения своего анализа, поскольку гомосекуальное сопротивление продолжает организовывать его психическую деятельность и требует либо сохранять дистанцию от мужского, либо от возвышенного. Вместо принятия факта своей оригинальности Крис помещает мотив воровства в Другого: «значит ворую у меня», поскольку из-за сопротивления истерику крайне необходимо сохранять представление о «передаче флюида», которое может принимать форму воровства в том числе, как тайной несанкционированной передачи, сокрытой от Другого и свидетельствующей о свободолюбии истерика. Таким образом, ошибка аналитика заключается в том, что он буквально интерпретирует воровство в рамках мужской истерии, вместо того, чтобы определить это как метафору связи Криса с Другим, смысл которой не в коннотациях с аморальным противозаконным действием, а в самом наличии связи, опосредующей доступ Криса к возвышенному измерению. Истерику важно воровать продукт признанности даже если тот брошен под ноги и напрямую ничем не защищён: акт воровства добавляет необходимые коннотации, чтобы ситуация удовлетворяла истерическому фантазму.
Продолжая уклоняться от отцовского взгляда, истерик и предлагает себя мэтру не в качестве того, кто мог бы действительно быть равным или хотя бы «принятым в ученики», но в качестве существа, которое особым образом ценит продукт мэтра и тем самым стремится занять такое же особое место в его ближайшем окружении, тем самым сохраняя свою расщеплённую позицию между тем, чтобы быть принятым «за своего» и возложить на себя долю общей ответственности и признания, и тем, чтобы сохранять путь к отступлению на женскую территорию, опасаясь того, что он на самом деле не сможет вынести той строгости, которая требуется отцом. По этой причине обращение истерика с продуктом признанного другого изобилует несуразностями и неточностями, как если бы он не мог полностью забрать себе украденное или даже вполне прилично переданное и постоянно обозначал свою небольшую некомпетентность, уловимую для внимательного слушателя, которому предлагается смилостивиться над истериком и не судить его строго как раз в виду того, что тот занимает особую позицию «хранителя» и не претендует на признанность, которая есть у мэтра.
Анализ, признание и траектории смещения
Всё сказанное ранее так или иначе приводит и даже вынуждает сделать указание на то, что такое поведение истерика имеет целью нечто, что остаётся полностью невысказанным и имеет место в рамках невроза лишь в качестве полунамёков и мутных интуиций, как если бы здесь пытались о чём-то сказать или спросить, но не владели языком, или ещё точнее — этот язык сам по себе являлся бы одновременно и средством выражения и непреодолимым препятствием на пути. С одной стороны очевидно, что истерическая позиция почти буквально кричит о своей уникальности, как если бы здесь стремились к оглушительному признанию со стороны самой широкой публики, а с другой — не менее очевидно, что это признание не может быть добыто и усвоено избранным путём, поскольку этот путь проложен так, как если бы не существовало никаких преград и вся проблема заключалась только в заполучении некоего «достоинства», которое по характеристикам напоминает волшебное моджо. В этой главе я буду опираться на недавние интуиции, которые в своих последних публичных лекциях продемонстрировал А. Смулянский, — о стадии признанности, гневе институций и неврозе как окольном пути получения «любви многих», который приводит к повторению неудачи на этом поприще. Поскольку многое из сказанного соответствует моему клиническому опыту, я вижу много выгоды в том, чтобы включить и прокомментировать высказанное в этих лекциях с акцентом на мужской истерии.
Истерия в этом ключе представляет собой попытку предоставить в качестве продукта, которым для получения любви будут обмениваться с «многими», самого субъекта — и истерик и истеричка пытаются предложить себя в качестве особого объекта, но, как уже было указано, неудача истерии связана с отсутствием возможности обмениваться, и потому избранный путь обретения признанности содержит внутреннее противоречие, обрекающее на неудачу. Субъект истерии противопоставляет уникальность обмену, так что невозможность отказаться от такого объекта и обменять его становится единственным надёжным подтверждением своей уникальности: потому всё, что может быть передано и обменяно, для истерика теряет блеск признания (собственно, по этой причине он одержим обслуживанием продукта своего мэтра так, словно его блеск может в любой момент исчезнуть и нуждается в особой поддержке). В рамках истерии эта проблема частично решается заменой любви многих на фантазию признания кем-то великим и уже достаточно признанным, как если бы в таком персонаже было собрано достаточно «достоинства», чтобы он своим отношением как бы говорил от имени многих, озвучивал некоторое common sense мнение условного большинства, тем самым успокоительно воздействуя на субъекта истерии и возвращая его в лоно благословенной нормы и одновременно утверждая его уникальные условия пребывания в рамках этой нормы. Для истерички таким персонажем выступает «особенный мужчина», которого ставят на место Господина и тем самым и защищаются от внимания большого количества «лишних» людей и одновременно реализуют свои сокровенные чаяния к особой форме популярности в качестве «компаньона для большого человека». Для истерика, как следует из этой работы, в роли «выразителя мнения многих» долгое время выступает женщина, через признание которой он способен выстроить относительно безопасные отношения с Господином и реализовываться на поприще признанности как её особый объект, однако достигнув здесь некоторой относительной устойчивости, заступает на мужскую территорию в поисках удивительного незнакомца, с которым он сможет реализовать то, что не смог реализовать с отцом. Определяющей в развитии истерического невроза оказывается роль признанной фигуры, возле которой субъект истерии способен расположиться в ожидании с одной стороны признания своих заслуг от этой фигуры, как если бы он самим своим присутствием и особым отношением создавал подспорье для усиления признанности, а с другой — мстить за отсутствие компенсации своих усилий и своего неудобного положения, тем самым втайне желая жестоко ниспровергнуть того, кто до этого был воздвигнут на пьедестал. Разумеется, истерик полагает, что признанность была достигнута мэтром за счёт того, какой он «есть сам по себе», а не единственно за счёт его продукта, который, в отличие от субъекта, подлежит обмену.
Возникающая здесь путаница заслуживает описания, поскольку она представляет собой достаточно плотно скрученное психическое образование в истерическом субъекте, намертво приковывающее его к очередной господской фигуре именно в связи с непониманием возникающих в самом истерике эффектов, которые не являются результатом его душевной жизни, но являются реакцией на 1) знание об отцовском желании и 2) на облагораживающую работу институции. Влиянии институции для субъекта истерии оказывается неотличимо от действий власти, — т. е. неразличимость между властью и полномочиями, между операциями властного назначения и выделения для получения признания. С точки зрения субъектов истерии их родители обладают реальной властью, — в случае истерика это мать, в случае истерички это отец, — хотя эти фигуры, как части семейной институции, обладают именно полномочиями в качестве первых зрителей признанности ребёнка, а не распорядителей властного порядка. Эта путаница имеет далеко идущие последствия, поскольку кентаврическое сращение в одной реальной фигуре власти и институции пусть даже сколь угодно воображаемым образом действительно задаёт такую степень неудобства, которая не может прочитываться иначе как признак неустранимого господства. Именно таким образом субъекты истерии оказываются в своём тяжелом положении, ошибочно определяя родительские институциональные полномочия в качестве жестов власти, и соответственно, эта власть всегда используется неправильно и полномочия всегда превышаются, создавая бесконечную череду несправедливости, которую истерик вынужден терпеть в связи с тем, что бороться с этой властью обычным средствами невозможно в связи с тем, что ею ни в коем случае нельзя быть отвергнутой — ведь она отвечает ещё и за признанность, тем самым закрывая для истерика доступ к независимости, на которую он периодически способен решиться. Такая ситуация создаёт торможение на обоих путях, не позволяя ни проходить через прокрустово ложе институции, поскольку её попытки произвести процедуру воспринимаются как злокозненные действия власти, ни полностью отделаться от властных повелений, поскольку они приобретают следы признанности, на которую истерик хотел бы продолжать рассчитывать.
Именно поэтому значимые фигуры субъектов истерии воображаемым образом объединяют функции власти и институции: будь то отец, мать, школьный учитель, университетский преподаватель или психоаналитик, все они ввиду институционального статуса получают от истериков вдовесок господскую позицию, как если бы им выдавали право отправлять властные жесты, к которым эти фигуры не имеют никакого отношения. Любовная линия избирается истерическим субъектом и в противовес господству и в качестве возможного способа примириться с Господином в том случае, если его не удастся низвергнуть. Характерным для истерии затруднением на всех этапах институционального процесса становится невозможность принятия отказа: отказ институции всегда интерпретируется субъектами истерии как подспудное указание на отцовский отказ, т. е. как очередное подтверждение того, что с ними «что-то не так», тем самым делая невозможным прохождение к признанию тропами институции. Вместо этого истерики любого пола сохраняют непоколебимую уверенность в том, что «путь для всех» представляет собой недоразумение и связан с необходимостью претерпевать ненужные страдания, терпеть унижения и лишения, а их «личный путь», координаты которого они всегда формулируют на языке взаимности в любви, представляет собой совершенно иную перспективу, работоспособность которой должна подтверждаться личным вкладом и усилиями. Так возникает двойной ход заблуждения в истерии: на первом этапе это сращение фигур власти и институции, на втором — сращение любовной и институциональной связи, результатом которой всегда становится катастрофа, поскольку вполне ожидаемая неудача на любовном поприще для истерички приобретает дополнительный мотив изгнания из институции с позором. Пример такой ситуации: опасения истерички «испортить отношения» со школьным преподавателем в связи с тем, что по её мнению это не позволит ей «нормально учиться» дальше, словно учитель обладает такой колоссальной властью в рамках своего небольшого кабинета, что действительно способен сделать её жизнь невыносимой. Поэтому истеричка, опасаясь такого исхода, не признается в своих «высоких чувствах» напрямую, но превратит свою школьную жизнь в череду невыносимых испытаний, демонстративное прохождение которых по её мнению должно заронить в зрителе (сообщение обращено учителю) неизмеримость её потенциала и способностей, вызвать восторг её самоотверженностью и необходимость оценивать её не той же меркой, которую применяют для её одноклассников, но «совершенно иначе».
Страх получить отказ делает саму операцию отказа недоступной для истерички, т. е. она сама оказывается не состоянии отказывать другим, поскольку одним ей жалко отказать, а другим страшно, словно своим отказом она навлечёт их гнев — хотя, как хорошо известно, представители институции обладают весьма скромными полномочиями, неспособными своим личным вкладом внести в жизнь истерички изменения, на которые она рассчитывает. Тем не менее, в виду описанной запутанности надежда на такое личное влияние родителя, преподавателя или психоаналитика сохраняется, поскольку без длительной аналитической работы развести спутавшиеся линии власти и институции едва ли возможно. Безусловно, знакомые с истерическими невротиками специалисты могут заметить, что на самом деле они осваивают операцию отказа в определённой мере, и даже наоборот как будто бы являются субъектами, преимущественно напирающими на отказ: например, как это делает красующаяся истеричка, соблазняя окружающих и отказывая им в сношениях, или истерик, воображающий себя Дон Жуаном, но при этом обращающийся в бегство всякий раз, как его необязательное знакомство начнёт действительно развиваться в сторону связи с женщиной. Однако это будет не совсем верно, и подсказкой к пониманию происходящего в истерии будет указание на мотив бегства: истерики не в состоянии произвести отказ в связи с тем, что он синонимичен по своим функциям отцовскому разочарованному взгляду, и поэтому вместо отказа производят операцию, которую я описываю во всех работах как работу «культуры отмены». Другими словами, истерики любого пола пытаются слиться с институцией и выстроить сцену таким образом, как если бы отказ исходил не от истерички, а от институции, так что результатами такого отказа становится общественное порицание субъекта, которой «захотел слишком много»: вместо личного отказа истерики хотят, чтобы их жертва была избита собственным желанием и претерпела то самое разочарование, которое по мнению истерического невротика должно следовать из столкновения с отцовским взглядом, — именно по его мнению, т. к. мы знаем, что такая реакция характерна только в условиях истерического невроза. Сливаясь с институцией воображаемым образом истерики теряют возможность через неё пройти и заполучить то признание, которого жаждут.
Таким образом жизнь истериков и истеричек наполнена бесконечной борьбой с институцией в самых разных формах, будь то попытка предотвратить буллинг «снизу» и открытие несправедливости того, что учитель никак не участвует в этом, или же попытка предотвратить влияние государства на университетскую политику, которое не позволяет студентам «свободно действовать». Возвращение в лоно семейной институции как и влияние этой институции для истериков зачастую представляется вздорной перспективой, поскольку эти субъекты как правило убеждены, что так или иначе «закрыли» для себя семейную историю, так что даже само её обсуждение «не имеет никакого смысла». Необходимость в ком-то вроде психоаналитика (как в очередной признанной и предположительно знающей фигуре) возникает у истерика при столкновении с неудачей на путях развития его невроза, т. е. в построении отношений с женщиной, в поиске признания на мужской стороне (в случаях, когда женщиной он уже обзавёлся) и при усилении сопутствующих симптомов (чаще всего — фобических) до уровня, когда связывать тревогу уже не представляется возможным. Зачастую анализ воспринимается истериком как «особая практика», из которой можно извлечь нечто такое, чего не могут дать никакие другие практики, — т. е. анализ может быть распознан как место причастия к волшебному моджо, а аналитик — как очередной «удивительный незнакомец», способный обеспечить доступ к возвышенному измерению через выстраивание особой связи. И хотя истерик не ошибается, поскольку анализ действительно стоит особняком от других пси-практик, это не значит, что он правильно определяет характер особенности этой сферы, — что дополнительно усиливает загадочность анализа до определённой стадии его прохождения. Как можно догадаться из всего вышеизложенного, при обращении с очередной знаменитостью истерик будет искать «взаимности», т. е. чтобы знаменитость ответила ему той же палитрой чувств, которую он испытывает к ней, тем самым «справедливо уравнивая» их и создавая иллюзию романтической связи, словно эти двое являются и фанатами друг друга и знаменитостями друг для друга в один и тот же момент времени. Невозможность такого соположения в символическом порядке истерика и волнует и не волнует одновременно, поскольку он полагает, что она преодолевается усилиями воли, терпением или переизбытком чувств, — так что поиск этой взаимности (как форме получения волшебного моджо) будет сопровождать его на протяжении всего анализа. Чего аналитику точно не следует делать, как и в случае с истеричкой, так это позволять обнаружить своё желание, — сама возможность его существования должна представлять загадку вплоть до конца анализа, несмотря на бесконечные попытки истерика поставить острый вопрос и «наконец выяснить чего же от него ждут».
Характер аналитической абстиненции нужно правильно прочитать: дело вовсе не в том, что аналитику надлежит быть нейтральным или скрывать свои «истинные чувства» под маской профессионализма, — дело буквально в том, чтобы дать истерику обнаружить измерение, несводимое к личным отношениям с другим. Это обнаружение должно открыть ему с одной стороны невозможность добиться своего через пресловутую взаимность в отношениях со знаменитостью, поскольку знаменитость любого уровня не может волшебным образом (флюидообразным) передать ему признанность, а с другой — скорректировать градус надежд истерика на господскую фигуру, от которой он считает себя безнадёжно зависимым существом, полностью подчинённым прихотям Другого. По этим двум траекториям анализ может вполне успешно продвигаться, с учетом, разумеется, того, что это продвижение для истерика до определённого момента будет совершенно нечитаемым, вызывая у него мысли о бесполезности процесса и собственной обречённости на пожизненные страдания. Не следует и сбрасывать со счетов сопротивление, которое в анализе истерии может внезапно оборвать казалось бы видимый прогресс, возвращая субъекта к привычным жалобам и недовольству собой, — оно может оказаться и как правило оказывается гораздо более живучим, чем представляется изначально. Ставка на сколь угодно интимную личную связь с (якобы) одинаково знаменитой и властной фигурой несостоятельна в связи с тем, что не знаменитость занимается производством других знаменитостей, — этим занимается институция, с которой у субъектов истерии особым образом не складываются отношения именно в связи со ставкой на личную связь, а не на прохождение процедуры. Процедура в истерии является тем, что постоянно норовят оборвать, и нужно уметь расслышать, что именно на процедуру направлена агрессия истериков, а не в отношении исполняющих её специалистов, — претензия к специалисту заключается в том, что он «прячется за процедурой», вместо того, чтобы в истерической манере «освободиться» от неё и действовать «естественно», несмотря на то, что именно такой подход приводит ко всем проблемам истерика.
Вопрос взаимности, как можно заметить, стоит остро не столько в анализе субъектов истерии, сколько в их жизни в целом в связи с описанной выше путаницей относительно признания: истерик не понимает невозможности быть в двух местах одновременно, т. е. быть для одного и того же человека в одном и том же смысле и фанатом и знаменитостью, которую он сам бы любил фанатской любовью. Именно поэтому абстиненция является абсолютно непреложным правилом при анализе субъектов истерии любого пола: не существует никакого другого способа заметить, что продвижение возможно не в опоре на личную интимную связь, а в качестве процедуры, которая производится институцией независимо от любых личных связей. Если же аналитик пренебрегает этими акцентами, уступая место «человеческим отношениям», то он невольно поддерживает невротический миф истерика, ввергая его в пучины Воображаемого, откуда выход будет происходить точно так же, как и всегда — через столкновение с Реальным, из которого не будет извлечено никакого нового знания, т. е. истерик попросту насладится в привычной манере и объявит происходящее «ещё одним жульничеством» этого мира и особенно людей, которые несправедливо пользуются своей властью. Разубеждать истериков в этом бесполезно, можно лишь строго придерживаться аналитического сеттинга и не допускать воспроизводства этой ситуации. Однако не следует думать (в связи с описанным выше характером истерического сопротивления), что даже строгое соблюдение сеттинга при удачно сложившемся переносе может быть исчерпывающим: потенциал этого невроза к сохранению своих позиций можно считать неисчерпаемым, поэтому работа с ним, как с чем-то обыденным и повсеместно встречающимся, представляет собой самую настоятельную и насущную для психоаналитической институции процедуру. Особенно в связи с тем, что сами психоаналитики могут испытывать аналогичные сложности в отношениях с институцией, если оказываются ею невротизированы, а не психотизированы.
Так же следует упомянуть, что пол аналитика в работе с истерией имеет значение, поскольку, пусть даже взятый на уровне воображаемого, он будет влиять на характер acting out-ов истерических невротиков независимо от того, насколько аналитик держится в стороне от таких ассоциаций. Так, например, из предыдущих работ должно быть видно, что для истерички аналитик мужского пола является предпочтительной фигурой для прохождения анализа, что означает, что выбор аналитика-женщины нужно прочитывать как acting out в отношении отцовской фигуры, аналогичный тем, которые Лакан демонстрирует на примере случаев Доры и гомосексуальной пациентки Фрейда. В случае же истерика эта ассимметрия понижает градус, поскольку выбор женщины-аналитика может стать даже более успешной стратегией: при выборе аналитика мужского пола нередки случаи, когда анализ истерика становится одним acting out-ом, в котором он стремится поддерживать со своим удивительным незнакомцем тёплые неконфликтные отношения, не скандализируя происходящее и так никогда и не переходя на «стадию мегеры», которая в анализе истерии означает выход из воображаемых отношений. Истерик, исходя из описанного в предыдущей главе, может оказаться настолько очарован аналитиком, что не предоставит никакой возможности сместить его из этих «добрососедских» отношений в сторону символического, при столкновении с которым он попытался бы произвести привычные passage a l’act-ы для обрыва связи. Однако это не значит, что женщина-аналитик окажется свободной от этого эффекта: напротив, похоже, в анализе с ней истерик будет готов предъявить свой сексуальный аппетит гораздо раньше и скандализировать происходящее, воспроизводя свой паттерн отношений с «властной женщиной», которая должна встать на его сторону, поскольку обратная или нейтральная позиция прочитывается как предательство и сговор с Другим. Снижение градуса асимметрии даёт возможность такому невротику успешно пройти анализ у женщины-аналитика при определённой доле удачи, однако фундаментальная характеристика этого невроза, как захваченность отцовским желанием с мужской стороны у истерички и с женской стороны у истерика, всё же сохраняет асимметрию в пользу прохождения анализа у аналитиков мужского пола в виду работы воображаемого в акте сексуального влечения. Это означает, что работа с истериком, несмотря на заметно менее скандальный характер, оказывается для аналитика сложной именно со стороны постоянно действующего гомосексуального сопротивления, которое может в любой момент соблазнить истерика к разрыву отношений, если ему покажется, что его «используют», несмотря на очевидную истину того, что это он использует аналитика (как и других окружающих) для нужд своего бессознательного.
Нанесение на своё тело увечий и ран является истерической формой предоставления себя в качестве объекта признанности, поскольку нанесённая на тело рана должна вызывать соответствующее влечение, связанное с касанием и прикосновениями. Мы видим, что если форма нанесения раны при обращении истерика с женщиной остаётся либо направленной вовне, либо заключённой на уровне мучений совести, то при реализации на мужской стороне появляется мотив самоповреждения, крайне характерный для истерички: что подсказывает, что перед нами два разных способа претендовать на признание в качестве особого тела, которое, в отличие от продукта признанности, не подлежит обмену и является самоценным, достаточным для любви. Неудача на этом поприще связана, разумеется, с тем, что со стороны субъектов истерии формируется именно требование любви, а требование как таковое неизбежно вводит измерение долженствования, которое исключает возможность реализации любовного чувства, но зато предполагает частичную реализацию институциональной мифологии. Истерик невротизирован институцией — семейной ли, школьной или психоаналитической, это всегда невротизированный субъект, который принимает институциональную мифологию, т. е. провозглашаемую сладкую сказку о счастье и успехе, которую скармливают новоприбывшим в качестве обещания любви, которое истериками прочитывается как нечто гарантированное. На самом деле из этого пункта и следует выводить отношение истериков любого пола к эдипальному паспорту: они подозревают эту институцию в обмане, в невыполнении обещания «ты найдешь кого-то когда-нибудь» в том смысле, что оно не сбывается мгновенно по требованию истерика и не управляется его прихотью, за что и заслуживает от него статуса «бессмысленности». Несбыточность и обман институциональной мифологии истерик всегда прочитывает как обман тех, кто эту мифологию озвучивал, т. е. он продолжает верить в саму эту мифологию и её обещания, но полагает, что они не были выполнены из-за того самого «вложенного зла», в котором истерик подозревает мать из-за того, что её любовь к нему никогда его не удовлетворяет. Неудовлетворённость этой ситуацией не приводит истерика к разочарованию в мифологии, — на её реализации во что бы то ни стало он продолжает настаивать, — но всегда приводит к разочарованию в персоналиях, которые «не справились со своими обязанностями», будь то родители, учителя, начальники или чиновники. Этих провалившихся в своих обязанностях субъектов истерик и собирается перевоспитывать, показывая им как нужно соответствовать заявленным институцией ценностям и в упор не желая видеть, что эти заявления потому и звучат так громко, что имеют другое назначение и никогда не собирались соответствовать действительности.
Поэтому аналитик, как очередной подозрительный представитель институции, воспринимается истериком как тот, кто должен сказать чего ему хотеть, кто должен сказать ему о его желании за него самого: истерик обозначает себя как вопрос для Другого, а не для самого себя, и поэтому аналитическое смещение имеет смысл проводить именно в направлении снижения градуса надежд на Другого и переориентировки истерика на то, чтобы самому быть для себя вопросом, а не полагаться на то, насколько Другой окажется милостив или заинтересован. Проблема в том, что эта позиция представляется истерику пустотной, бессмысленной, не имеющей того ощущения полноты реализации, которая мерцает при контакте с желанием Другого, — поскольку, как я сказал выше, его не устраивают «туманные обещания признанности», которая не реализуется по первому требованию, — и потому он отказывается от неё забегающим вперёд жестом, ещё до того, как предпримет попытку её освоить, как если бы он заранее знал, что результат такого освоения ему не понравится. Однако здесь он ошибается, ведь это знание он получил не исходя из своего опыта, — такого опыта у него нет, поскольку он постоянно отказывается от этого пути, — а на основе взаимодействия с желанием Другого. Именно статус этого знания должен подвергнуться в анализе истерика пересмотру, но крайне важно, чтобы такой анализ учитывал гомосексуальное сопротивление истерика: дело никогда не должно заключаться в том, что истерик не прав так же, как ему на это указывают представители мужского братства, а в том, что его положение и симптомы являются метафорой, т. е. он страдает от отсутствия возможности более прямым образом выражать свои чаяния, вместо этого пытаясь проехаться на желании Другого как на чём-то гарантированно надёжном и точно достигающем цели. Стать вопросом для самого себя, а не для Другого — именно так можно сформулировать цель, к которой имеет смысл продвигать анализ истерика. Из эффективности продвижения по этому пути уже, как правило, следует снижение градуса надежд на «удивительных незнакомцев» и открытие собственной заинтересованности именно что в классической мужской инициации, как ситуативной лотерее и возможности не только столкнуться с отказом, но и в этом столкновении самому освоить отказ.