Виктор Кутковой. Тератология и гротеск как отражение православного и католического мировоззрений в изобразительном искусстве


Разговор о важности в человеческой жизни и широкой распространенности орнамента, начиная с неолита, безусловно, будет банальным. Удивляет другое: очень скудный список книг, особенно русских, посвященных изучению не только тератологического — любого орнамента. Статьи иногда встретить можно, и что не менее удивительно — о тератологии даже чаще, чем о других видах орнаментики, но совсем мало — о гротеске (о нем пишут в основном филологи применительно к своей области знания, т. е. к литературе).
А сопоставить тератологию и гротеск никто, кажется, и не пытался, тем более в православном аспекте. Смысл такой, однако, сегодня есть, учитывая ситуацию, возникающую между Западом и Востоком. Контраст обнаруживается сразу — и разительный.
Но начнем по порядку.
Несмотря на греческую окраску, термин «тератологический стиль» (teras — чудовище, диво; teratologos — фантастический) был введен во второй половине XIX века Ф. И. Буслаевым; сами те орнаменты (преимущественно книжные) существовали до второй четверти XV века, в Рязанской области до XVI столетия.
Гротеск — порождение античного Рима, но воскресает в практической жизни искусства после 1480 года, когда «античные лепные узоры были обнаружены в заросших землей помещениях знаменитого „Золотого дома“ — дворца императора Нерона. И по этим подземельям, гротам (гротта — по-итальянски пещера) они были названы гротесками»1
На первый взгляд, тератологический орнамент и гротеск имеют много общего: причудливые фантастические животные, изощрённо соединенные с растительными узорами… И кому-то может показаться, что умерев на православном Востоке, тератологический орнамент примерно через 70–80 лет получает новую жизнь в обличье гротеска на католическом Западе.
Увы, сторонники подобного «сближения через миграцию» глубоко обманываются: оба феномена связаны между собой лишь языческими началами, да и те имеют разные временные и географические координаты, разные — по своему язычеству.
Большинство ученых прослеживают корни тератологии из Болгарии, некоторые исследователи говорят о русском происхождении, а В. Борн выдвинул гипотезу о скандинавских истоках и о ее движении на Балканы (сначала на Афон, далее — везде) через Русь. Поэтому говорить о генезисе здесь можно только гипотетически.
Стиль, отдаленно напоминающий тератологический и тоже относящийся к звериному, сложился еще накануне христианизации у кельтов и у германцев (до сего времени сохранились памятники VII века).
Плетенка — как неотъемлемая часть названного стиля — употреблялась и славянскими мастерами. «Мы встречаем ее в каменной резьбе Далмации IX–X веков, в каменном рельефе X века из Польши, в капители костела св. Гереона в Кракове, в карнизном блоке портала церкви в Дреново IX–X веков (Болгария) и пр.».2 Как показывают археологические находки, широко пользовались плетеным узором в Новгороде, где им украшалось большинство деревянных поделок X–XI веков.3
В XI столетии на Руси складывается так называемая «переходная», т. е. неразвитая тератология, однако в южнорусских рукописях можно видеть единичные экземпляры тератологии и вполне «развитой».4
У исследователей встречается разная классификация тератологии. В. Н. Щепкин подразделяет тератологию на «народную» и «техническую». Н. А. Киселёв — на «незрелую» и «зрелую». Т. Б. Ухова — на «развитую» и «неразвитую». Последним определением мы и пользуемся.
Если судить по датам, то на русскую почву тератология могла попасть ещё в пору первого балканского влияния, причём с богомильским «привкусом». Ибо «народная» тератология, скорее всего, возникла именно в богомильской среде. Связь народных воззрений с богомильством давно замечена и проанализирована.5 К концу правления царя Симеона (X в.) эта докетическая ересь, особенно популярная среди болгарских простолюдинов, здесь и берёт своё начало.6 С точки зрения богомильского учения о сатанаиле, становится понятным первенствующее значение в народной тератологии мотива змеи: змеи не как объекта почитания, а, напротив, как антагонистично враждебной стороны, ибо, во-первых, богомилы — иконоборцы; во-вторых — большие любители книг, в-третьих, змея — единственное животное, убить которое не составляет греха для богомила; изображение здесь употребляется в качестве одного из многочисленных широко практиковавшихся заклинаний против нечистой силы и одновременно в качестве антииконизации (на змею или грифона не помолишься).
Кстати, в развитой тератологии тоже снимается вопрос о моленности образа. Она предназначена совсем для другого. Поэтому тератологические мотивы отсутствуют на иконе.
Здесь нет смысла вмешиваться в спор о происхождении этого стиля. Мы согласны с Н. А. Киселевым: «Творческое развитие тератологии шло параллельно — и на Балканах и на Руси».7 И, памятуя гоголевских героев, не столь уж важно, кто первым сказал «э» — отдаленные истоки явления, которое получило название «чудовищный стиль», связаны с мифами многочисленных варварских племен Азии и Европы, в свою очередь уводящие к древним культурам Ирана и Месопотамии. Отсюда, например, изображение иранского «царя птиц», собаки-птицы Сенмурва, ставшего в русских книгах Симарглом, и рыбы Кара. Востоку обязана христианская орнаментика появлением в ней львов, грифонов, фронтальных орлов, кентавров, стреляющих из лука, сцен звериного гона, единоборств и охот. Великое переселение народов и принесло с собой это богатое образами наследие Азии. В церковную ограду подобные образы попадали в качестве народных форм, подлежащих наполнению новым, христианским содержанием. И наполнялись. По такому принципу происходило строительство церковной культуры на всем протяжении истории. Говорить же о влиянии на православие идей болгарского богомильства или иранского зороастризма, а такие разговоры еще случаются, — значит, по меньшей мере, не понимать самого процесса воцерковления.
Секулярное сознание недоумевает: «Как могла языческая система символов, ее орнаментальная образность попасть в христианскую рукописную книгу и дать жизнь целому стилистическому направлению?» Ответы бывали от примитивных до экзотичных. Такие исследователи «русского тератологического орнамента» либо полностью отрицали за ним всякий смысл, либо сводили его к воспроизведению жанровых сценок и копированию узоров ювелирных изделий предшествующих веков, либо усматривали в нем ловко замаскированную сказочно-фольклорную, языческую или даже антицерковную сюжетику. В последнем случае оформление рукописи приходилось связывать с деятельностью новгородских и псковских еретиков. Все эти предположения странным образом противоречили друг другу и тому обстоятельству, что мотивы тератологического орнамента, несмотря на явный антагонизм по отношению к тематике христианских религиозных книг, упорно, в течение нескольких столетий использовались именно для их украшения.
В действительности никакого антагонизма между изображениями и текстом не было и не могло быть. Секрет заключался не в том, что изображали тератологические персонажи, а в том, что они обозначали».8
И здесь без апофатического богословия Дионисия Псевдо-Ареопагита не обойтись: на его системе подобных и неподобных образов построен язык тератологии.
Свою систему Дионисий вводил с целью посильного постижения Истины. Но как постигнуть Ее, если «Она превыше всякой сущности и жизни»? В Писаниях «Она сверхмирно воспевается в отрицательных определениях, называющих Ее невидимой, беспредельной, невместимой и прочим и указывающих не на то, чем Она является, но на то, чем Она не является».9 Через такую апофатику Ареопагит подводит нас к своему заключению: «для невидимого гораздо более подходяще разъяснение через изображения, говорящие о неподобии»10, пусть даже эти изображения и будут из разряда «низких» — по идее, они и должны быть оттуда. Сомневающихся и соблазняющихся Дионисий успокаивает: «если же кто-нибудь сочтет, что такая иконография нелепа, и скажет, что стыдно предлагать богообразным и святейшим небесным чинам столь оскорбительные изображения, тому достаточно сказать, что образ изъяснения священного двояк».11 Ибо Писания «чтут, а не бесчестят небесные чины, изображая их в неподобных им формах и таким образом показывая, что они надмирно пребывают за пределами всего вещественного. А что неподобные образы возвышают наш ум лучше, чем подобные, я не думаю, что кто-либо из благоразумных людей стал бы оспаривать»12.
Отсюда «благоразумные люди» и стали вырабатывать символический язык, понятный для членов Церкви и закрытый для внешних. И этот язык был найден: открытый на протяжении нескольких веков для первых и непроницаемый, как видим хотя бы на примере науки, для вторых.
Язык тератологического орнамента входит в церковный обиход не в эпоху духовного кризиса, а, совсем наоборот, — в цветущую пору православия. Входит не на правах молитвы-беседы и соединения с Богом, а в качестве исключительно богомыслия, почему и употребляется чаще всего в книгах да — реже — во внешнем декоре храма.
Теперь необходимо обратить внимание на гротеск.
Настенные росписи «третьего помпейского стиля» представляют собой «орнаментальную фантастику с чертами якобы реального, хотя и невозможного по законам природы сооружения» (Ю. Герчук). Сегодня мы назвали бы такой мир виртуальным. При всем том, что мода неизменно находила на него спрос, имел он и своих непримиримых критиков. Витрувий писал: « <…> вместо колонн ставят каннелированные тростники с кудрявыми листьями и завитками, вместо фронтонов — придатки, а также подсвечники, поддерживающие изображения храмиков, над фронтонами которых поднимается из корней множество нежных цветов с завитками и без всякого толка сидящими в них статуэтками, и еще стебельки. С раздвоенными статуэтками наполовину с человеческими, наполовину со звериными головами»13 (Выделено мною. — В.К.). Впрочем, Витрувия раздражают не замеченные им же монстры, а отсутствие здравого рассудка при построении архитектурных сооружений. Что и понятно, ибо гротеск — как порождение языческой культуры — является примером мировоззренческого кризиса античности. Росписи катакомб, там же в Риме, не содержат и намека на подобные уродства, поскольку созданы христианскими художниками. Гротеск заявил о рождении новой формулы творчества: говорить субъективно о субъективном. Старая формула «субъективно — об объективном» не упразднялась, но теряла монопольную власть в светском искусстве.
Эпоха Возрождения центр тяжести в гротеске переносит с архитектуры на монстров. По признанию Дж. Вазари, художническая среда его времени понимает под словом «гротеск» вольную и потешную разновидность живописи, изображающую «всякие нелепые чудовища, порожденные причудами природы, фантазией и капризами художников, не соблюдающих в этих вещах никаких правил: они <…> приделывали лошади ноги в виде листьев и без конца всякие другие забавные затеи, а тот, кто придумывал что-нибудь почуднее, тот и считался достойнейшим».14
Один из них — Бернардино Почетти — примерно в 1530 г. расписал библиотеку папской резиденции в замке Сант-Анджело изображениями морских божеств и гротесками: игривых ангелочков окружали тритоны, сирена с раздвоенным хвостом хватала за волосы человека, другие мифологические фигуры «скакали» на морских конях.
Можно ли подобной представить библиотеку Московского митрополита Даниила в 1530 году?
Но вот что пишет западный современный автор: «Все эти росписи, полные динамизма, свидетельствуют о популярности античных мотивов, встречающихся даже в личных апартаментах папы».15
Повальное увлечение язычеством до сих пор считается весьма положительным явлением: не пожалели и преподобного Андрея Рублева, назначив полномочным представителем античности на Св. Руси. По причине унылой заурядности подобных фактов нет смысла на них останавливаться.
Казавшееся «забавой» в эпоху Возрождения, во времена маньеризма и барокко становится «нервозной, почти истерической одухотворенностью».16
Православному человеку, взглянувшему на такие произведения, не надо объяснять какого духа была эта «одухотворенность». Ведь даже «Библия в гротескном воплощении предстает чем-то условно-декоративным (достаточно сравнить трактовку тех же сюжетов в обычной, не орнаментальной гравюре XVI века)».17 Таким образом, и Книга книг превращается лишь в эстетически «забавную идею».
А ведь попытка на Западе создать особый символический язык, понятный для церковного круга, как тератология на Востоке, предпринималась почти параллельно: в Романский период. Но победил велиар — дух секуляризма, и вместе с ним убеждение: кто больше вручит себя неистовому бесу фантасмагории, тот и молодец. Авторами Каролинговых Книг художник еще в конце VIII века был выведен за церковную ограду и отпущен на все четыре стороны. «Священное изображение сохраняет прочную связь со светским существованием, оно по природе мирское»18 — вот принцип, остающийся, кажется, до последнего времени в основе католического мировоззрения, несмотря на самокритику отдельных представителей Рима.
Поэтому гротеск никогда не считался средством возведения ума к небесному и, следовательно, никогда не представлял языка, коммуникативного не только между землей и небом, но и внутри Церкви. Это было, пожалуй, бесомыслием, а не богомыслием. Отсюда — из темной основы — и начинается химерическая символика масонов, т. е. создается язык анти-Церкви — церкви антихриста. Сама химера — древнегреческое мифологическое чудовище с огнедышащей львиной пастью, хвостом дракона и туловищем козы — есть, как видим, типичный мотив гротеска, только без узорных добавлений.
Единственное, что сближает гротеск с тератологией, — это невозможность считать их за художественный прием. И то, и другое претендовало на особый взгляд, т. е. было именно мировоззрением.
Гротеск служил не постижению Истины, а авторскому произволу художника, через магию абсурда выражавшего собственное «Я». Искать Истину, в Ареопагитовском смысле, сей западноевропейский служитель Аполлона даже и не помышлял.
Существует прямая закономерность в том, что гротеск наиболее массовый и демонический характер приобретает в Нидерландах и Германии, т. е. там, где проповедуется религия без аскезы — протестантизм.
Почему же, в таком случае, выходит из употребления тератология? Явились ли тому виной какие-либо социальные причины? Или слишком сложным, «элитарным» оказался язык этого стиля?
Ни первое, ни, тем более, второе.
Сегодня, в виду отсутствия подтверждающих документов, можно твердо сказать: принудительные запреты на использование тератологических орнаментов не существовали. Иначе в XV веке «чудовищный стиль» не употреблялся бы при оформлении буквиц (заставки к тому времени украшались по-другому). Из буквиц он изначально вышел — на буквицах и заканчивался…
Нельзя тератологию связывать с ересями стригольников — и подавно жидовствующих. Она возникла на Руси задолго до них и сошла на нет без их помощи: православная полемическая литература, направленная против еретиков, молчит о тератологии. Виновник ее умирания — второе южнославянское влияние, которое охватило русскую письменность в результате целого ряда серьезных политических перемен в славянских странах Балканского полуострова».19 Под «переменами» имеется в виду завоевание этих стран турками, и как следствие — эмиграция мастеров на Русь.
И если все-таки тератология была завезена к нам с Балкан, то оттуда же пришел и ее сменщик с красноречивым названием «балканский стиль» (жгутовый и плетеный орнамент). Такая смена говорит больше о новых вкусах, нежели о запретах.
Плетенка предшествовала тератологии, плетенка ее и сменила. «Чудовищный стиль» ни во что не трансформировался — он просто исчез.
По-другому обстояло дело с гротеском: из него с каждым временем все больше и больше убирался узор, — но все настойчивей и настойчивей выползали монстры.
Без гротескомании в Нидерландах невозможно было бы появление такого художника, как Иероним Босх.
Человечки с журавлиными ножками однажды, потехи ради, взяв старт на Апеннинском полуострове, не могут достигнуть финиша по сей день. Они похлопали в ладоши чудищам из снов разума Франсиско Гойи в начале XIX столетия. А во второй половине — жутковатым фантазмам французских символистов. На рубеже XIX–XX вв. полюбовались своими наполовину человеческими, наполовину звериными головками в кривом зазеркалье декадентов. Чуть позже нашли ближайших родственников в творчестве сюрреалистов. И, хвастливо размахивая уже не итальянскими, а американскими паспортами, теперь осатанело кривляются с телевизионных экранов.
И кто это делает чуднее всех, тот и считается достойнейшим.
Использованная литература:
1 Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? М.: Галарт, 1998.С.70
2 Воробьева Е. В. Семантика и датировка черниговских капителей // Средневековая Русь. М.: Наука, 1976. С. 178
3 Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево. М., 1971. Табл.1, 9-12
4 См.: инициалы Добрилова Евангелия, л.7; Евангелия из Центрального государственного архива древних актов, ф. 188, № 1, л. 21; Евангелия из Третьяковской галереи, л. 209 об.
5 См. труды А. Н. Веселовского, Гастера и др.
6 Державин Н.С., акад. История Болгарии. Т. II. М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1946. С. 39
7 Киселев Н. А. Орнамент малоизвестной рукописи XII века // Древний Новгород. М.: Изобразительное искусство, 1983. С. 179
8 Голейзовский Н. К. Семантика новгородского тератологического орнамента // Древний Новгород. М.: Изобразительное искусство, 1983. С. 198. Вот точный ответ православного ученого. Мы умышленно проходим мимо символических значений тератологического орнамента. Интересующихся отсылаем к этой содержательной статье Никиты Касьяновича.
9 Восточные отцы и учители Церкви V века. М.: МФТИ, 2000. С. 325
10 Там же.
11 Там же. С. 324
12 Там же. С. 325
13 Витрувий. Десять книг об архитектуре. Т.1. М., 1936. С. 143
14 Вазари Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих. Т.1. М., 1956.С.110
15 Моран Анри де. История декоративно-прикладного искусства. М.: Искусство, 1982. С. 319
16 Герчук Ю. Я. Указ. соч. С. 74
17 Там же.
18 Безансон Ален. Запретный образ. М.: МИК, 1999. С. 167.
19 Чаев Н.С. и Черепнин Л. В. Русская палеография. М., 1946. С. 167
Небольшой ознакомительный фрагмент того, что будет в следующем посте «Тератологический стиль буквицы» — часть первая (только для подписчиков и раз в пять больше, чем фрагмент.







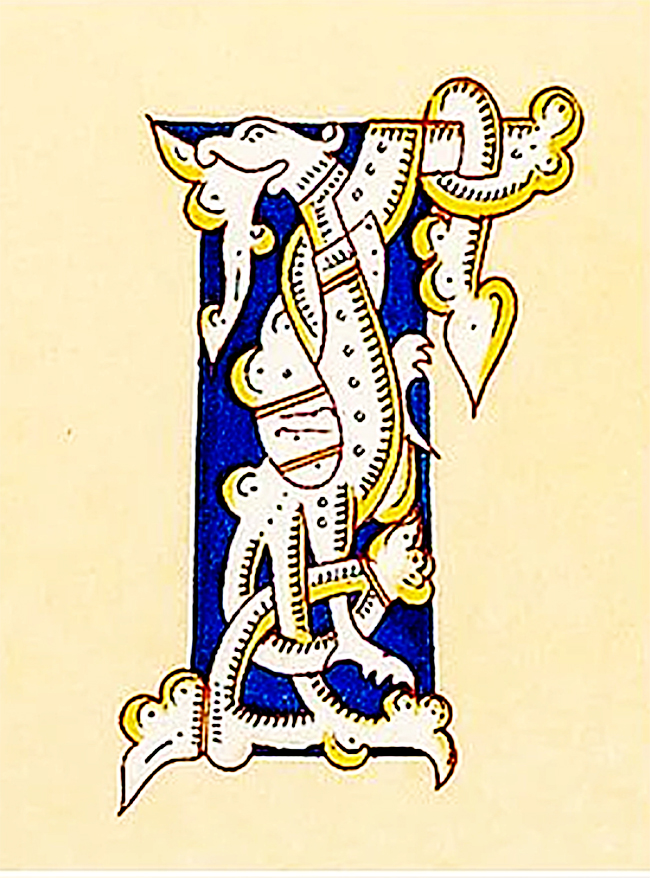


По гротеску также будут публикации, но они будут представлять художников, оставивших свой след в развитии орнаментального гротеска.


0 комментариев