Для связи
Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда


Чтобы не усложнять: кто что хочет сказать — валите всё сюда

На самом деле грустно читать уровень рассуждений о диаспорах и рынке Садовод как о сути конфликта с Азербайджаном. События так-то весьма опасные — и имеют отношения к отгремевшей войне.
Если вкратце.
1. Азербайджан выбрал протурецкий вектор в геополитике. Турция помогла ему в противостоянии с Арменией и в целом культурно родственна. При этом Азербайджан благоволит и к Израилю (Израиль с техникой ему во Второй Карабахской тоже активно помогал). Противоречий тут нет: Израиль и Турция сотрудничают и между собой. У Израиля нет особого выбора (даже таких условных региональных союзников у него, мягко говоря, негусто). Турция же стремится со временем превратить Израиль в своего младшего партнёра (США уйдут во внутренние проблемы, Европа из них и не собирается выходить… Тель-Авиву всё равно некуда будет податься).
2. Турция выстраивает — ну, пытается выстроить — свой «полюс» в многополярном мире. Старается оформить отдельный макрорегион. Он имеет несколько вариантов. Основные — пантюркистский и неоосманский. В рамках пантюркистского он очень сильно пересекается с нашим макрорегионом, в рамках неоосманского — пересекается в значительной степени. То есть Турция бесспорно станет нашим врагом — а с ней и её младший партнёр, Азербайджан.
3. Также старается — или старалась прежде — оформить себе что-то вроде макрорегиона и Британия. С этим связана и война на Украине. Что характерно, Британия тоже претендует на то, чтобы стать опорой для Израиля — и проецировать через него своё влияние на Ближний Восток, включая зону Персидского залива. В последнее время, правда, британские элиты явно плотно «лежат» под глобалистами, но дело в том, что:
а) глобалисты тоже играют против России, в том числе на Украине (то есть тут их интересы совпадают);
б) если глобалистов в Британии «подвинут», то едва ли к власти в Лондоне вдруг придут русофилы; скорее всего, восстановится прежняя политика — на выстраивание своего макрорегиона, что подразумевает на Ближнем Востоке опору на Израиль.
Комическая вставка: скорее всего, британцы думают, что и Эрдоган именно им «каштаны из огня» таскает, помогая Британии через своё региональное влияние. В то время как, скорее, наоборот. У Британии просто нет возможности контролировать Эрдогана. Ему ничего не мешает воспользоваться британским влиянием в странах, на которые он претендует (через образовательные связи, отчасти НКО, британское влияние, скажем, в Средней Азии и на Кавказе ещё есть), а потом бриттов «бортануть».
4. Во время отгремевшей 12-дневной войны, как неожиданно выяснилось, отчасти слабость иранской ПВО была связана с тем, что израильская авиация заходила на атаку с севера — из акватории Каспия. Куда она попала через воздушное пространство Азербайджана (ну и Турции, очевидно): ну не через Россию же (а также, видимо, и Армении, но кто её вообще спрашивает?).
Тут нет ничего странного, так как сотрудничество Турции и Израиля, как мы уже говорили, нормальная ситуация. Но Иран, конечно, отнёсся к этому без особого понимания. Отношения Ирана с Азербайджаном обострились.
Напоминание:
Очень значительная часть населения Ирана — этнические азербайджанцы (письменность на основе арабики, а не латиницы, но язык тот же). Это вполне лояльные граждане, и даже сам рахбар Ирана — аятолла Али Хаменеи — этнический азербайджанец. И иранских азербайджанцев значительно больше, чем тех, что в независимом «Северном» Азербайджане живут (который, с иранской точки зрения, таким образом, есть некая диковатая окраина).
В своё время ещё в СССР была даже идея отторжения у шахской Персии азербайджанских территорий и присоединения их к АзССР. Но тогда проблема западного влияния в регионе решилась иначе.
5. У России союз с Ираном. Пока — не военный. Но, тем не менее, обмен информацией по линии спецслужб, совместные учения, неоказание помощи противникам друг друга, антитеррор, военно-техническое сотрудничество предусматривает и действующий договор (от января 2025 года). Но, главное, у России и Ирана есть много совместных проектов, в частности транспортный коридор «Север — Юг» (между бассейном Индийского океана и Европой и/или северными морями). Он подразумевает создание нескольких «веток». Двух железнодорожных — по восточному и по западному берегам Каспийского моря — и водной, по Каспию — Волге — Волго-Балтийской системе каналов.
6. У Британии и Турции есть свой проект — «Средний коридор». Вообще-то он считается ответвлением китайского проекта «Один пояс — один путь». Но на практике для бриттов и турок вполне выгоден и без участия Китая (то есть даже если КНР от него откажется, ситуацию это принципиально не поменяет). Это маршрут через Турцию, Грузию и Азербайджан в Каспийское море и далее в Среднюю Азию. Он имеет и вариант «Грузия — Чёрное море — Украина — Польша». Над ним принято смеяться, но забавно это только если считать, что такая схема без Китая экономически не оправдана. Но из Средней Азии вполне есть, что возить. Британия определённо пытается включить в свою сферу влияния Восточную Европу, Кавказ — и далее через Каспий Среднюю Азию. Турция — тюркские страны (Азербайджан и Среднюю Азию… нет, даже «Центральную» — по Синьцзян и Афганистан включительно).
Замечание в сторону: как можно видеть, на маршруте есть потенциальный «затык» — Грузия, в последнее время отходящая от прозападной позиции. Впрочем, её наличие большое значение имеет только для Британии. А вот для Турции — не очень-то. Эрдогана устроит и прямой путь по суше через Азербайджан и Армению. Последняя пока что существует как почти что независимое государство… но это пока. Что характерно, нарастание конфликтности в грузинско-западных отношениях Британию не устраивает, а вот Турции в определённый момент оно может оказаться даже полезно…
7. Конфликт России с Азербайджаном позволяет разорвать западную железнодорожную ветку ТК «Север — Юг». А если поставить на Каспии что-то вроде военно-морской базы (с какими-нибудь БЭКами) и т. п., то под вопросом оказывается и водный путь. Вообще такой ход позволит проецировать турецкую силу на Каспий — и далее в Среднюю Азию. Проект поддерживает Британия (в иллюзии того, что контролирует ситуацию) и Израиль — чтобы подойти к Ирану с севера (и вот для него это относительно разумно).
Это — реальная опасность для Российского макрорегиона. Это очевидная и недвусмысленная опасность для нас, тут иллюзий питать не надо. Враждебные внешние силы не должны иметь доступ к Каспию.
8. У России, однако, есть очевидная контригра. Россия может просто заключить обязывающее оборонное соглашение с Ираном (практически наверняка сейчас он отнесётся к такому варианту с большим интересом, нежели зимой…). Заключить с ним союз — по образцу союза с КНДР. Ну или заключить соглашение об общей ПВО и т. п. — как более мягкий вариант того же самого.
В этом случае израильская агрессия против Ирана становится невозможной.
Для Израиля это полная катастрофа: война с Россией не входит в его планы (а Ирану развивать свою ядерную отрасль это всё не помешает). Но и нам, если что, придётся действительно воевать с Израилем. Ну да, наверное, одного удара «Орешником» хватит для нейтрализации его ядерного арсенала, но, тем не менее, это серьёзная опасность.
Для безъядерной Турции это тоже усложняет ситуацию (а вот для ядерной Британии — не очень).
9. Но такое соглашение очень сильно подорвало бы сейчас российско-американские отношения. Оно делает намного менее вероятным скорый выход США из войны на Украине. ВСУ получают новую поддержку, СВО дополнительно затягивается. Трамп теряет позиции собственно в США…
В общем, мы можем это сделать, но дезавуировать подобное уже будет потом нельзя, фарш назад не провернёшь. И наши, похоже, пока просто угрожают чем-то подобным.
Не хотелось бы пока. Это осложнит ситуацию на фронтах СВО. Это чревато ядерной войной (небольшой, но мало ли). Главное, у нас есть возможность потом решить всё куда проще… Когда на Украине руки будут развязаны.
10. Нет, в принципе можно договориться о военном союзе с Ираном, но при условии, что обогащение урана, к примеру, он ведёт на нашей территории (пусть сколь угодно самостоятельно). А мы гарантируем, что по меньшей мере урановые боеголовки Иран не создаст. Если Иран на такой вариант согласится. Но, в конце концов, у Белоруссии ядерного оружия нет, но «ядерный щит» вполне имеется.
Тогда да: США против не будут (проблема же решена) — и формально у Израиля не будет оснований возражать. Но это реально сложная дипломатия, для осуществления которой весьма желательно иметь «свободные руки». И она занимает много времени.
В общем, сразу было понятно, что сейчас будут приложены очень большие усилия, чтобы конфликт урегулировать или заморозить. Так что он либо достаточно быстро «остынет»… Либо наоборот: произойдёт резкая эскалация. Вроде пока остывает…
Несколько успокаивает то, что пока никто особо к войне не готов. Израиль не восстановился — и не сможет пойти на конфликт сравнимой интенсивности так скоро. США это совершенно не нужно. Россия следует «принципу Петра Первого»: «в каждый конкретный момент у вас должен быть только один противник». Но Турция, Британия, глобалисты остаются дестабилизирующим фактором.
В общем, есть все основания относиться к ситуации с предельной серьёзностью. И рынок «Садовод» — последнее, что тут имеет отношение к делу.
Третий день не могу доредактировать посты. Угу, у меня сейчас только мобильный Интернет, а его постоянно отрубают, причём НАДОЛГО. Война, блин.
Сегодня/вчера полдня не было сети вообще, полдня — с перерывами. Цены на такси выросли в разы (похоже, половина водителей просто не знает города).
Вроде как был сбит один БПЛА. Упал так удачно, что обесточил несколько домов, причём в одном из них живёт мать коллеги моей жены. Матери 87, недавно сын погиб на СВО. На кислороде была, стала задыхаться, как электричество вырубило. Вызвали скорую, та госпитализировала…
Ладно, фиг с вами, проведу и сюда проводной Интернет, уговорили…
PS: Подозреваю, к нам в Самару через границу с Казахстаном лететь могут.

Был несколько занят последнее время, но ещё не поздно подвести итоги 12-дневной Ирано-Израильской. Но начать следует с констатации, что война закончилась почти идеальным для нас — России — образом.
1. Иран в целом жив и здоров, особого ущерба не понёс. Он — наш союзник (не военный, но во всех остальных отношениях), на него завязано множество региональных и макрорегиональных проектов (достаточно упомянуть ТК «Север — Юг»).
2. Иран теперь на военное сотрудничество с нами весьма мотивирован. В прежнем договоре с ним военных статей не было, а теперь какие-то такие соглашения могут появиться.
3. Очень хорошо, что война оказалась короткой. Ибо наши возможности оказывать помощь Ирану сейчас, по понятным причинам, весьма ограничены. А вот возможности Китая — практически не ограничены ничем. Продлись война дольше — и Иран мог бы отдрейфовать в сферу влияния Китая, что было бы в перспективе нам совершенно не нужно. Это мы только против Запада союзники. А что будет дальше… Ну, разные варианты есть.
4. Иран и так уже заказал в Китае современные самолёты и комплексы ПВО. И понятно, почему: нам сейчас то, что мы производим, самим нужно. Единственное, что мы пока можем предоставить эксклюзивно — обязывающее соглашение о взаимопомощи (как с КНДР). Ну или хотя бы о совместной ПВО и т. п. «облегчённые» варианты того же самого. КНР вряд ли ввяжется в реальные боевые действия за союзника, а Россия может (по крайней мере, такое сложилось в мире общественное мнение).
Так что — безотносительно тому, быстро бы истощили иранцы Израиль, медленно или вообще бы не истощили: длительная война там была не в наших интересах.
Теперь суть:
Китай, будучи первой экономикой мира, тактически поддерживает концепт «многополярности». В реальности же он вынашивает проект альтернативной глобализации (трудно его судить: возможности позволяют…). Ну да — не американоцентричной, а китаецентричной… но точно ли для всех остальных, кроме Китая и США, будет разница?
[Будет, конечно; но это тупиковое направление, как показала практика.]
России в китайском проекте предназначено место «китайской Канады» — если сравнивать с американским глобализационным проектом (не путать с проектом Трампа, которому независимая Канада вообще не нужна). Ну да: северная страна, ресурсы — как в целом минеральные, так и специфические «северные» (типа древесины из тайги), контроль через её посредство Арктики, военная интеграция (внешний пояс обороны).
Ну, а так как Россия — всё же не Канада, то поначалу на неё возлагаются и особые задачи: донор остаточных советских и некоторых новых технологий, логистический хаб… и обладатель крупнейшего в мире ядерного арсенала. Союз с Россией даёт возможность сразу получить силовое превосходство над США, а вот без неё ядерный арсенал ещё придётся долго наращивать. Потом, когда эти функции будут выполнены — уже чистая «Канада», да.
Россию же такой вариант не устраивает. Мы играем в многополярность по-настоящему.
Пока что равнодействующая между глобальным миром и многополярностью застыла на отметке «три полюса». Заслуживают упоминания в мире как потенциально самостоятельные «полюса» США, Китай и Россия. В Южной Азии Индия никак не «построит» Пакистан и прочих, в исламском мире Эрдоган никак не разыграет свою партию (Израиль при Турции, похоже, должен по его мысли занять то же место «внешнего» ядерного арсенала, как Россия при Китае), ситуация в Африке и Латинской Америке неопределённая, в Европе и Британии сидят остатки глобалистов и пытаются бороться сразу со всеми.
США (в Трамповской версии) пытаются выстроить свой «полюс» на основе Северной Америки — и, вероятно, Западной Европы и/или Южной Америки.
Китай претендует на Юго-Восточную Азию, Африку, а также остальную Евразию, кроме Индийского субрегиона и Европы — и, возможно, Латинскую Америку. Да, в том числе на Россию. Ну — для начала: потом — и на всё остальное.
Россия же собирается «забрать своё» в Восточной Европе и на постсоветском пространстве — и… Да, выйти на юг через Иран в качестве «ворот». Есть и другие варианты, но пока «рабочий» — этот. Ну и в наших интересах увеличивать количество «полюсов»: наш складывающийся макрорегион они не слишком заденут (кроме потенциальных турецкого и британского), а вот американский и китайский «обкусают».
Ну вот, собственно, почему Иран важен. И почему замечательно, что Ирано-Израильская война закончилась быстро.
Это всё для предварительного понимания, что там реально происходило.
Чуть позже — собственно по результату.
Тоже написано года два назад. Но ситуация с тех пор несколько изменилась. На момент написания статьи Главного Противника США однозначно видели в Восточной Азии, а мы были именно что второстепенным… Сейчас же Китай для них всё ещё основной противник (потому что ещё и геоэкономический конкурент), но вот в военном отношении Россию недооценивать перестали. Что даёт надежду, что в этот раз выйдет иначе.
Сегодня День памяти и скорби — годовщина начала Великой Отечественной войны. Подробнее об этом я уже писал, не вижу смысла повторяться:
22 июня: Германия была побеждена в 1941-м
Но стоит осветить один важный момент.

О неожиданности нападения. Давно известно, что её не было: о планах Германии было известно ещё с зимы. Однако то, каким именно оказался немецкий удар, стало неожиданностью. Не по тактике, а по целеполаганию.
В СССР от Рейха ожидали попытки одержать крупную локальную победу: на большее у него — в условиях продолжающегося противостояния с Британией — просто не было времени. Предполагалось, что Гитлер может нанести удар на юге — на захват Украины, Крыма и на выход к запасам кавказской нефти.
Это выглядело логично. Основная проблема Третьего Рейха — не считая отвратительного человеконенавистнического нацистского режима, разумеется — это ресурсная ограниченность. Она, в общем, погубила Второй Рейх в Первую Мировую. Захват «житницы» — Украины и «бензоколонки» — Кавказа с одновременным выходом на Ближний Восток решали эту проблему. На остальной части территории СССР просто не было ничего такого, что не могло бы обождать окончания войны на Западе. Исходя из такого расчёта, СССР и разместил войска — мощнейшим в стране стал Киевский особый военный округ.
Но немцы поступили иначе. Основной удар был нанесён на Москву. Эта ошибка, в общем, в значительной степени и поставила в тяжёлое положение РККА в 1941 году. Правда, Рейх такая стратегия и вовсе погубила. Если надеяться откусить и прожевать Украину и Кавказ он ещё, теоретически, мог попробовать, то опрокинуть весь Союз одновременно шансы у него слабо отличались от нуля. Но почему Германия так себя вела?
Гитлер при встрече…
…с Муссолини и Чиано 20 января 1941 г. … заявил, что «общее положение на Востоке можно правильно оценить только с точки зрения положения на Западе. Нападение на Британские острова является последней целью. Здесь мы находимся в положении человека, у которого в винтовке остался всего один патрон: если он промахнется, ситуация станет еще хуже, чем прежде. Высадку не повторить, так как в случае неудачи будет потеряно слишком много техники. Тогда Англии больше уже не придется ничего опасаться, и она сможет направить свои главные силы на периферию, куда ей вздумается. А пока высадка все еще не состоялась, англичанам приходится считаться с ее возможностью… … Самая большая угроза — огромный колосс Россия. Хотя Германия подписала с Россией весьма выгодные политические и экономические договоры, все же лучше полагаться на свои силовые средства. Но при этом весьма значительные силы связаны на русской границе, не позволяя направить достаточное число людей в военную промышленность, чтобы до предела усилить производство вооружения для авиации и военно-морского флота…».
vtoraya-literatura.com/pdf/chiano_dnevnik_ministra_inostrannykh_del_italii_1946__ocr.pdf
А для победы над Британией как раз флот и авиация и нужны. То есть победа над СССР — лишь средство для дальнейшей борьбы против Британии.
До того Германия предлагала СССР полную свободу рук и даже содействие при движении на юг — в сторону Британской Индии, но СССР уклонился от такого предложения.
То есть основной задачей при нападении на Советский Союз Гитлер видел не реализацию некоего рационального плана по ограблению СССР и т. п. (всё, что известно под названием «план „Ост“», датировано уже 42-м годом, когда война давно уже шла). Предполагалось просто через разгром СССР нанести удар по Британии — ну и отбросить Россию подальше от Европы, где активно действовал Третий Рейх.
Что не значит, что потом, после победы над Британией, Россией не занялись бы снова. Но непосредственно летом 1941-го Германия не планировала ни покорение СССР, ни даже его особенно существенное ограбление: всё внимание германского генералитета и политической элиты поглощала война с Британской империей.
Это выглядит довольно странно с позиции нашего «послезнания». Но на тот момент немцы «арийскую» Британию считали существенно более опасным противником, нежели обреченную — в связи с потерей арийского «культурного ядра» — Россию (так Гитлер описывает СССР в «Майн Кампф»).
Интересно то, что подобное положение вещей — норма в истории.
Первая Отечественная война — с Наполеоном — изначально называлась Наполеоном «Второй Польской»: предполагалось укрепить Варшавское герцогство (зародыш восстановленной Польши), «вытолкнув», как водится, Россию их Европы. Ну и принудив её соблюдать Континентальную блокаду против Англии.
То есть опять-таки победа над Россией рассматривалась как элемент — один из ходов — в борьбе с кем-то ещё. И — точно так же: эта второстепенная операция вдруг разрослась до судьбоносного противостояния, исход в котором решал надолго судьбы Европы и мира.
.Даже Карл XII, воюя против коалиции России и Саксонии, воспринимал Россию как «азиатскую» страну, которая почему-то полезла в европейские дела. Нужно было её отбросить от Европы, а потом опять обратиться к европейским противникам.
Шведы разбили Петра под Нарвой — после чего занялись Августом Саксонским. Пётр же использовал полученную передышку для общего укрепления страны и армии, преодоления военно-технологического её отставание от шведской армии.
После того, как, разобравшись с Августом, Карл вдруг осознал, что Россия в итоге укрепилась, и намного, шведский король обратился вновь против русских. Карл предполагал отобрать у Петра Ингерманландию — ну, собственно, всё завоёванное Петром побережье, а также Новгород и Псков. Также крупные территории — по Смоленск включительно — предполагалось отдать Польше…
Ну и в какой-то момент Карл понял, что достичь всех целей можно только непосредственным подчинением всей России. Чем закончился его «русский поход», общеизвестно.
Одним словом, Гитлер допустил совершенно стандартную европейскую ошибку — ту самую, которую допускали все европейские завоеватели. Они не воспринимали Россию как европейскую страну, как следствие — не воспринимали как сильную страну (неевропейскость = нецивилизованность, а у нецивилизованных народов откуда взяться силе?), ввязывались в локальную операцию против России, которая была вспомогательной для другой, более важной — и потом, когда осознавали ошибку, было уже поздно.
Что характерно, в тех случаях, когда Россию воспринимали более-менее адекватно, часто имело место балансирование на грани войны… но прямая война на никогда не начиналась. Ну — в том случае, когда Россия действительно считалась главным врагом. В частности, во время Холодной войны вышло именно так.
Так что ответ на вопрос, может ли 22 июня повториться, прост: это становится возможным в том случае, если повторится та ситуация, в которой находились Карл, Наполеон и Гитлер. Когда Россию будут рассматривать как второстепенного противника, нанесение поражения которому является лишь вехой, необходимым условием для общего успеха в борьбе против Главного Противника.
Например, если у нас главным противником считается Китай, то Россия становится противником второстепенным, однако обладающим достаточным потенциалом для того, чтобы, возможно, склонить чашу весов в ту или иную сторону. Сразу возникает соблазн нанести России локальное поражение для того, чтобы вынудить хотя бы не вмешиваться в ситуацию, а, может быть, и вступить в западную коалицию на случай войны с Китаем.
И вот тогда произойдёт то самое локальное столкновение, которое приведёт к Большой Войне… И это не просто возможное, это совершенно стандартное, трафаретное развитие событий для отечественной истории.
Разумеется, очень не хочется, но приходится иметь в виду такой сценарий. К счастью, гиперзвук животворящий способствует тому, что рассматривать Россию как второстепенного противника — по меньшей мере в военном отношении — становится затруднительно. Это означает, что вероятный противник десять раз подумает, стоит ли воевать с Россией. А если подумает, то, скорее всего и не станет воевать.
Полезная вещь оказалась — гиперзвук (и вообще лидерство в оборонных технологиях).
Статья 2021 года (вроде бы, не помню уже)
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В 4 часа утра войска Великогерманского Рейха и его союзников атаковали западные границы СССР.
Практика показала, что лучше бы они этого не делали: Рейх на этом закончился, а из его союзников удалось выжить лишь Финляндии (отделаться новыми территориальными потерями).
Это общеизвестно. Стоит пролить свет только на один момент. Почему-то иногда считают, что Великая Отечественная война делится на две части: в первой из них СССР проигрывал, а потом вдруг начал побеждать. Произошёл «коренной перелом» под Сталинградом — и на смену периоду поражений пришёл период побед.
Так вот это не так. Это слишком большое упрощение, фактически радикально искажающее реальную картину. На самом деле судьба Рейха была решена именно тогда — в 1941-м.

Согласно предвоенному плану Германии — собственно «Барбароссе» — СССР должен был понести решительное поражение в приграничном сражении, западнее линии «Западная Двина — Днепр». На это отводилось 20 дней. После этого должна была последовать оперативная пауза — ещё 20 дней, по окончании которой последовало бы наступление на Москву, в ходе которого были бы разбиты последние 30-40 советских дивизий (именно столько, по расчётам немецких стратегов, у РККА на тот момент бы оставалось).
Дальнейшие шаги не были прописаны. Иногда можно встретить утверждения о том, что в итоге предполагался выход на некую линию «Архангельск — Волга — Астрахань». Но это вовсе не так. Есть зафиксированные слова Гитлера, который упоминал об этой линии как об оптимальной для начала переговоров, но и только. Если такие идеи и существовали, то ни в какие конкретные военные планы и директивы они не были оформлены.
Да и фюрер упоминал об этом в довольно в странном контексте: мол, при таком положении войск последний советский промышленный район на Урале можно было бы парализовать с помощью бомбардировок. Если о советской промышленности в Сибири и на Дальнем Востоке вождь арийской нации мог и не знать (хотя сложно себе такое представить: СССР не только не скрывал её наличие, но, напротив, всемерно рекламировал свои успехи в индустриализации), то уж о радиусе действия собственной авиации он совершенно точно был в курсе.

То есть, если сказать проще, немецкое руководство вообще не озаботилось полноценным планированием операции. В буквальном смысле слова действовало по принципу «война план покажет»: «сначала разобьём РККА в приграничном сражении, а там видно будет».*1
К тому были определённые предпосылки: война против СССР, как ни странно, воспринималась в Рейхе как непрямая форма борьбы с Британией. Мол, СССР — последний потенциальный союзник англичан в Европе. Разбить его — и, возможно, Британия (сестринская арийская страна!) согласится на почётный мир. Но даже если и нет: в условиях отсутствия необходимости держать часть Вермахта на советском направлении против Британии можно будет сосредоточить гораздо больше сил…
То есть, в общем, нет смысла продумывать планы так уж детально, если всё может быстро и существенно поменяться. Но если даже и не поменяется — уж как-нибудь арийцы-то советских унтерменшей при любых обстоятельствах доломают…
…и исполнение
Ну так вот предвоенный план рухнул на 21-й день войны. Тогда должна была начаться оперативная пауза, но… Её не последовало.
Просто немцы вдруг обнаружили, что, несмотря на все успехи, к победе они вовсе не приблизились. После разгрома части сил РККА в приграничных районах внезапно выяснилось, что у СССР есть Второй стратегический эшелон. Да и советские войска в окружении сплошь и рядом сдаваться не собирались.*2
То есть блицкриг что-то не получался. Нет-нет, блиц-составляющая плана «Барбаросса» в целом выполнялась. Но вдруг оказалось, что этого недостаточно, да плюс ещё и задержки относительно графика пошли. До Москвы, не говоря уже о мифической Волге, ещё далеко, а если наступательный напор выдохнется, то…
Как ни странно, на тот момент уже можно было предвидеть события с достаточно большой долей вероятности. Да, уже тогда — менее чем через месяц после начала войны.
Советско-германский ТВД расширяется при движении с запада на восток, то есть войск нужно будет всё больше. Мало их иметь: нужно их ещё доставить к местам боёв и потом снабжать. Коммуникации немцев при движении на восток становятся всё длиннее, причём проходят через разрушенные в боях территории. Советские же, наоборот, сокращаются. При этом у СССР пока остаётся основной транспортно-логистический узел региона — Москва, то есть переброску войск с одного участка фронта на другой РККА может проводить быстрее. При этом промышленность из западных районов СССР эвакуирована на восток…

Вполне очевидно, что, чем дальше, тем сложнее немцам будет наступать, и с большой долей вероятности в итоге сформируется позиционный фронт. Далеко в глубине советской территории, но какая разница? Германия не готовилась к войне на истощение. Она даже милитаризацию экономики полноценно не провела. Ей нужно ещё заканчивать войну с Британией, а теперь это проблематично.
И, собственно, оставался фактор США: они явно собирались вступить в войну (в рамках стратегии Рузвельта у них просто нет других вариантов), и определённо при выборе между Британией и Германией они в качестве союзника предпочтут не Рейх. Ну да, по состоянию на середину 1941-го для США вероятнее всего выглядела война с Японией. Но ведь когда-то она закончится. Япония уступала США по экономике на порядок: долго ли она продержится?..
Одним словом, Германии нужно было обязательно выводить из войны СССР, и быстро. Но формирование позиционного фронта, то есть провал блицкрига, делал это невозможным. Тут даже потенциальный захват Москвы принципиально ситуацию не менял: для победы нужно было выводить Вермахт за Волгу, в тыл линии новых промышленных районов, в которые промышленность с запада СССР вывозилась…
Так и вышло. К концу 41-го года позиционный фронт действительно сформировался. И США действительно вступили в войну. В день наступления нового 1942 года, когда была подписана Декларация Объединённых Наций, в Кремле имели полное право пить шампанское в том числе и за будущую победу. А вот шансы Рейха на выживание снизились до уровня вероятности победы Японии над США…
Но осознание руководством Германии провала предвоенного планирования произошло уже через три недели после начала боевых действий, когда Брестская крепость ещё сражалась!
То есть основа победы над Германией была заложена именно тогда — во время героического сопротивления РККА в тяжелейших условиях 1941 года. В якобы бессмысленных контратаках, в безнадёжном сопротивлении окруженцев, в первых, ещё неумелых акциях партизан… Они позволили выиграть драгоценное время, благодаря которому была выиграна и война.
Ну, а первыми тогда, 22 июня 1941-го, врага встретили пограничники. Тогда всё ещё только начиналось:
«1-я пограничная застава — старший лейтенант Кичигин. Сражались до 23 часов 22 июня. Из 63 пограничников 40 погибло. Уничтожили более 100 фашистов, прорвались из окружения.
2-я пограничная застава — младший лейтенант Горбунов. В 14.00 прорвались из окружения. Потеряли более 40 человек. Уничтожили до 300 фашистов.
3-я застава-старший лейтенант Михайлов. Четыре атаки отбили. В 7.00 заставу окружили. Вырвалось несколько человек.
4-я застава — старший лейтенант Тихонов. В 5.00 заставу окружили. В 6.00 застава сражалась. Никто не вышел.
5-я застава — младший лейтенант Богомол. В 7.00 на заставу из пограничной комендатуры прибыло 25 человек. В 9.00 застава отошла. Начальник заставы погиб и более 30 человек.
6-я застава — лейтенант Герасимовский. Оборонялись до 17 часов, и отошли.
7-я застава — лейтенант Трефилов. Оборонялись 8 часов, затем отошли.
8-я застава — старший лейтенант Сереветник. В 11.00отошли.
9-я застава — лейтенант Кижеватов. Никто не вышел.
10-я застава — младший лейтенант Шиков. Отбив атаки застава отошла.
11 -я застава — старший лейтенант Евдокимов. В 5.00 фашисты обошли заставу. Отошла на восток.
12-я застава — лейтенант Шарпатый. Заставу подкрепил батальон Красной Армии. Бой был до 19.00. Погибло более 22 пограничников. В 19.00 застава отошла на восток.
13-я застава — младший лейтенант Щеголев. Застава окружена. Большинство погибло. Вырвался заместитель политрука с пятью красноармейцами.
14-я застава. Ничего не известно.
15-я застава — лейтенант Иванов. Оборонялась до 12.00 часов и отошла.
16-я застава — лейтенант Баскаков. В 7.00 окружили. Сражались 6 часов. Погиб начальник заставы и заместитель по политчасти политрук Пшеничный. В 10.00 застава отошла.
17-я застава — лейтенант Вавашнев. В 13.00 отошли.
18-я застава — лейтенант Богданов. Данных нет.
19-я застава — лейтенант Стрелкин. Отошла.
20-я застава — старший лейтенант Манекин. Сражались 10 часов.
Штаб отряда с ротой связи в 70 человек и комендантским взводом в 30 человек отошел из Бреста в 8.00.
Не вышли штаб 3-й пограничной комендатуры с 3-й резервной и 9-й заставами, автотранспортная рота, саперный взвод отряда и сборы кавалеристов застав из крепости.
Судьба 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 16, 18 линейных застав, 1 и 2-й резервных застав, штаба 1-й пограничной комендатуры неизвестна.»
Из исторического формуляра 17-го Краснознаменного Измаильского пограничного отряда им. Ф. Э. Дзержинского (Брестский погранотряд)
Цит. по wolfschanze.livejournal.com/871756.html
*1 В частности, «внезапно» выяснилось, что в предвоенных планах не прописан даже вопрос «поворота на юг»: что делать Вермахту после Приграничного сражения — наступать на Москву, или же сначала повернуть на юг — на Киев?
С точки зрения здравого смысла, оставлять на фланге мощнейшую группировку советских войск было нельзя. Сначала нужно Юго-Западный фронт РККА разгромить, а уже потом атаковать столицу СССР. Да и статус Киева как узла коммуникаций немногим ниже, чем статус Москвы. Но были в руководстве Вермахта и те, кто, по-европейски, «мыслил столицами» и считал, что при захвате Москвы сопротивление РККА волшебным образом закончится.
Разумеется, в итоге было принято решение о «повороте». Но как вообще мог возникнуть такой вопрос? Почему столь важный пункт плана не был прописан заранее?
*2 Конечно, с разными частями РККА в окружении получалось по-разному. Но одна сражающаяся длительное время часть компенсировала быстрый разгром или пленение других, приковывая к себе потом крупные силы немцев — которых в итоге не хватало на фронте. Достаточно вспомнить, что одна только Брестская крепость дала треть потерь Вермахта в первый день войны и 5% — в первую неделю.

В общем, из перечисленных 5 сценариев пока идём по 4-му, но в облегчённом варианте. В статье о пяти сценариях это было в постскриптуме:
Трамп может нанести удар по Ирану, но «условный» — не задействуя серьёзных сил. Так он в первую каденцию делал в отношении Сирии.
Пока что всё похоже именно на «отбывание номера».
Удар нанесён по трём атомным объектам. Вроде бы (информация потом может поменяться, это что известно на сейчас). По двум из них выпустили около трёх десятков крылатых ракет. По одному (Фордо) — 5 или 6 единиц GBU-57. Это противобункерные бомбы — весом больше 13 т, но при том взрывчатки там всего около 2.4 т. Правда, она мощная, основана на октогене. Это раза в 4 мощнее тротила.
Проведём расчёт.
Фордо находится глубоко — над основной частью 80-90 м грунта, причём по условиям местности — очень прочного, скального.
А бомба эта имеет проникающую способность от 15 м (армированный бетон) до 60 (рыхлый грунт — вроде песка). То есть одна штука точно не достанет до цели.
Ну-ка, а если 6 штук подряд прямо точно в одно место ударят?
Первая взрывается на глубине 15 м (понятно, что скальный грунт к бетону намного ближе, чем к песку). Скала дробится, обломки частично отбрасываются далеко, частично падают обратно — на стенки образовавшейся воронки, откуда осыпаются на её дно. В итоге на дне воронки образуется многометровый слой дроблёного камня.
Вторая бомба проходит сквозь обломочный слой проще, чем сквозь скалу, но тратит на это часть энергии, и заглубляется в скальный грунт уже в меньшей степени. Она тоже дробит часть скалы, а обломки от первого взрыва становятся мельче (дробятся ещё сильнее). При этом стенки воронки стали круче, и осыпается обратно уже больший процент выброшенного грунта.
Третья и последующие — эффект усиливается, а разрушение от каждой оказывается всё меньше… Понятно, что наступит момент, когда будет достигнуто «насыщение», а добавление очередной бомбы уже никак ситуацию менять не будет.
Для детального расчёта я слишком устал, так что честно спросил у нейросетей, какой результат получится. Все ответили примерно одно и то же. Не буду копировать сюда расчёты и рассуждения о рассеянии энергии, ограничусь выводом (Gigachat):
1. Насыщение воронки произойдет приблизительно после третьей или четвертой бомбы. Это связано с резким снижением эффективной глубины проникновения последующих зарядов.
2. Конечная глубина проникновения в скальный грунт ориентировочно достигает примерно 35–40 метров, тогда как над ним формируется устойчивый слой обломочных материалов толщиной около 10–15 метров.
Это приближённая оценка, основанная на простой модели потерь энергии при последовательных ударах и изменении характера грунта. Для точного расчёта требуются специализированные знания геологии, механики грунтов и физики взрывчатых веществ.
По моим ощущениям, это занижено раза в полтора-два.
Но оно особой роли и не играет. Хорошо, допустим даже там не 40, а 80 метров скалы разрушено. Всё равно: даже в самом что ни на есть наиудачном варианте такая бомбардировка привела бы к обрушению потолка в одном месте, на разрушение постройки энергии уже не останется (это если предполагать, что, помимо собственно грунта, объект не защищён дополнительно бетоном и т. п.). В реальности же, так как невозможно положить бомбы «тютелька в тютельку» (а тут отклонение на 10 метров — уже значимо) в любом случае вышло бы меньше, чем максимально возможный расчётный уровень разрушений.
Мораль: не знаю, как два других, а объект Фордо точно не разрушен.
По поступившей информации, собственно, американцы бомбами пытались только завалить выходы из него. Даже если предположить, что они действительно успешно это сделали, и что это действительно все существовавшие выходы — это несерьёзно: иранцы всё откопают…
Мораль-2: честно говоря, это всё больше похоже на «отбывание номера». Самый «облегчённый» вариант сценария 4: Трамп наносит символический удар — и потом рассказывает, как он всех победил. При этом удар такой слабый, что полномасштабно расстреливать всё американское в сфере досягаемости Ирану вроде даже неудобно как-то…
В общем, трудно отделаться от подозрения, что Трамп постарается теперь поскорее «спрыгнуть с темы», сказав израильтянам, что вопрос решён, а если они считают иначе — пусть дальше сами разбираются.
Так как Иран это, в общем, устраивает, то он заинтересован в том, чтобы в ответ ударить, но не настолько сильно, чтобы вызвать дальнейшую эскалацию (так — затухающую волну взаимных «покусов»). Примерно по образцу ирано-израильских разборок 2024 года, которые ни к чему особенному тогда не привели.
Конспирологическая версия: трудно отделаться от мысли, что подобный сценарий был согласован с Ираном (и не только). Это многое бы объяснило — в частности, удивительно лёгкий заход американских самолётов в воздушное пространство, где ПВО Ирана была ещё отнюдь не полностью подавлена. И — отсутствие жертв среди иранцев.
Посмотрим, что за этим последует (насколько сильным будет ответ Тегерана). И к чему приведёт визит иранского министра иностранных дел в Москву (планируется на 23-е).
А то, глядишь, придётся и в конспирологию поверить…

Единая Европа тогда, 22 июня 1941-го, называлась вроде бы иначе. Но суть была та же.

Итак, сценарии.
Если не учитывать возможного внешнего вмешательства, сценариев основных, скажем так, два с половиной (формально — три):
Сценарий 1: Истощение Израиля
Через пару недель Израиль, разменивая современные противоракеты на старые иранские ракеты и на дроны, выдохнется. Начнётся деградация ситуации. Если он не сумеет как-то настроить свои политику, экономику и вооружённые силы на длительную серьёзную войну, прогноз для него становится весьма негативным.
Собственно, видно, что после того, как Иран не обрушился в первые сутки, Израиль уже начал экономить силы ПВО. Иран отреагировал на это, перейдя от запуска сразу сотен ракет к более «дробным» ударам десятками ракет: ПВО-ПРО Израиля прорывают и такие. То есть ракет у Ирана точно хватит надолго.
Сам Израиль тоже при нанесении ударов переходит в большей степени на дальнодействующие дроны: они дешевле и пока есть, а вот диверсионные группы внутри Ирана скоро кончатся, и авиационные ракеты будут во всё большем дефиците. А для применения авиабомб ПВО Ирана пока слишком сильна.
За счёт большего масштаба Иран проявит и большую устойчивость под атаками (можно сравнить с У-ной, которая меньше и по площади, и по населению). Для Израиля же поражение даже одной электростанции, одного порта — это весьма значительный ущерб. Не только материальный, но и психологический: несмотря на постоянную террористическую угрозу, всё же именно к войне (когда тебя реально бомбят, а не изредка постреливают ракетами каменного века) народ там готов не был (а в Иране такого рода психологическая накачка была в порядке вещей).
В общем, через пару недель защитный и ударный потенциал Израиля будет подорван. А через месяц… может дойти дело до ядерного оружия. Ну — угрозы его применения.
Дальнейшее из той точки, где мы находимся, пока «не видно», но лучшего момента для того, чтобы провести официальную нуклеаризацию, у Ирана не будет.
Если она происходит — то дальше идёт короткий «клинч» и…
…либо его разрешение в виде договора, фиксирующего изменившиеся реалии (то есть — поражение Израиля);
…либо, как то ни печально, ядерная война: обмен ударами, после которого Израиль де-факто исчезает (слишком мал, слишком большой масштаб разрушений — население просто разъедется), а Иран нуждается в длительном восстановлении.
Если нуклеаризации Ирана не происходит, то…
Да почти что то же самое: либо идут новые переговоры, когда поражение Израиля зафиксировано (но всё же не такое масштабное, как в предыдущем варианте), либо происходит ядерный удар Израиля по Ирану — и ответ последнего всеми силами по ядерным объектам Израиля, возможно с применением «грязных» бомб. Тут ущерб для Израиля тоже может оказаться фатальным, хотя и с меньшей вероятностью.
Сценарий 2: Долгая война
Обе стороны успешно адаптируются к использованию в первую очередь БПЛА. Налаживают, по российско-украинскому варианту, борьбу с БПЛА противника с помощью зенитных пулемётов, дробовиков и т. п. В итоге обмен ударами так и будет идти месяц за месяцем — вплоть до октября 2026-го, когда Нетаньяху с треском проигрывает выборы. Новое правительство, имеющее возможность «начать с чистого листа», скорее всего пользуется ею и заключает мир по плюс-минус «нулевому» варианту.
Сценарий 3 (2.5): Иран играет на опережение
Иран превентивно создаёт ЯО, о чём и объявляет. Тогда происходит примерно такой же кризис, как в сценарии 1, но в лучших для Ирана условиях, шансов на успех у него больше. Так как этот сценарий близок к сценарию 1, его за отдельный вариант учитывать не обязательно. Но учтём всё-таки.
Но это всё — если нет внешнего вмешательства, то есть если США не начинают войну с Ираном. А если начинают?
Сценарий 4: Американо-Иранская война
Прежде всего: какую форму американское вмешательство может иметь?
Наземная операция теоретически возможна, но требует длительной подготовки. Перед войной в Ираке готовились несколько месяцев. Проводили учения в Европе, тренировались в похожей местности в других регионах и т. п. Пока что у нас ничего подобного не было (при том, что по масштабу Иран — это вам не Ирак).
Скорее всего, имеются в виду только воздушные удары. То есть, помимо израильских, удары будут наносить и американские самолёты, причём как с баз, так и с авианосцев. Также вероятна массированная атака крылатыми ракетами (в отличие от Израиля, США имеют возможность сделать нечто в этом духе).
Очевидный ответ Ирана:
Удар по базам США в регионе. Они гораздо ближе, чем Израиль, их можно достать не только ракетами средней дальности, но и ракетами малой дальности, которых у Ирана гораздо больше. И высокоточных среди них больше. То есть в ход будет пущено то оружие, которое против Израиля не применяется: следовательно, ослабления ударов по Тель-Авиву, Хайфе и пр. не будет.
Также — а, возможно, как раз в первую очередь — удары наносятся по американским кораблям, начиная с авианосцев (если те окажутся достаточно близко).
Вообще, что касается авианосцев, то использовать их в подобной операции — крайне рискованно. Современные западные системы ПВО-ПРО не могут перехватывать гиперзвуковые ракеты, которые у Ирана имеются. Даже одной такой ракеты достаточно, чтобы вывести авианосец из строя. В принципе — и потопить с одного удара тоже есть шансы. А можно случайно разрушить бортовой ядерный реактор…
Да, точность иранских ракет пока оставляет желать лучшего, но авианосец — это КРУПНАЯ цель. Даже умеренный риск потопления одного из этих символов государственной мощи для США едва ли приемлем. Когда хуситы стали обстреливать авианосную ударную группу США, та сочла за благо отойти: у йеменцев теоретически тоже могло быть иранское гиперзвуковое оружие…
Поражение кораблей другого типа подразумевает меньший материальный ущерб, но и оно будет воспринято в США крайне болезненно.
Но если кораблями не рисковать — что, собственно, даст присоединение американской авиации к израильской? В общем, тут сложный для США выбор.
Самое главное: силы ПВО от вмешательства США в боевые действия мощнее не станут. Всё, что может быть использовано для перехвата иранских ракет, уже используется — для защиты Израиля. А вот если Иран станет бить ещё и по американским базам, то часть ПВО придётся направить на защиту этих баз. А натиск на сам Израиль слабее не станет…
То есть вообще-то противовоздушная защита Израиля от вступления США в войну скорее ухудшится, чем улучшится.
Ну да, через много месяцев бомбардировок, потеряв много самолётов и солдат (и пару авианосцев), потратив огромный объём вооружений, США, возможно, истощат возможности Ирана. Но что к тому моменту останется от Израиля? И… от мировой экономики: Ормузский пролив Иран перекрыть наверняка сумеет. Возможно, не станет перекрывать прямо наглухо, для всех (для Китая исключение сделает), но по американской экономике и внутриполитическому положению администрации Трампа будет нанесён тяжелейший удар…
Вариант ядерного удара США по Ирану не учитываем, так как по сути он совпадает с вариантом ядерного удара Израиля по Ирану: до США иранцам не дотянуться, но вот по Израилю вломить «по полной программе» они, скорее всего, успеют…
На что же есть надежда у США?
Сценарий 5: «Антиисламская революция»
Ну да: расчёт на внутреннюю нестабильность в Иране. Об этом чуть подробнее.
По отзывам тех, кто имел дело с Ираном, важнейший фактор там — всепроникающая коррупция в форме взяточничества на всех уровнях. Особенности идеологии этому скорее способствуют, чем препятствуют: именно благодаря необязательности законов происходит «подгонка» исходно средневековых норм под реалии индустриальной цивилизации. А эта необязательность и создаёт почву для взяточничества и пр. Да, этим может воспользоваться и противник.
Во-вторых, со времён Исламской революции в силовых структурах Ирана существуют армия (обычные ВС) — и КСИР (Корпус стражей Исламской революции). Это, в целом, параллельные и во многом конкурирующие структуры. И этим межведомственные противоречия отнюдь не ограничиваются. Да, можно себе представить и ситуацию, когда разные иранские силовые структуры сливают противнику данные на своих конкурентов (а то и то, что под удары противника маскируются внутренние разборки — всё равно ж израильтяне не станут отрицать, если им нечто подобное припишут…).
Ну и, собственно, Иран — не арабская страна. Арабо-израильские отношения едва ли могут быть хорошими до решения Палестинского вопроса. А вот отношения с Ираном, не арабским, не суннитским, теоретически могли быть и лучше: были же при шахе?
Ну вот где-то тут, похоже, и крылся расчёт Израиля (и его покровителей). Совершенно точно, что израильские спецслужбы воспользовались взяточничеством для внедрения своих агентов туда, куда им было нужно. И, нельзя исключать, договорились с какой-то группой заговорщиков внутри силовых структур Ирана.
По последним данным — ещё и опирались на «массовку» афганских беженцев (их в стране более 3 млн). Напомню: бежали от режима талибов не только те, кто в принципе не хотел жить при них. Но и те, кто активно сотрудничал с прозападными властями Афганистана при Карзае. Да, среди них уже было достаточно работающих на западные спецслужбы…
Как бы то ни было, каким бы ни был план, он наверняка провалился (скажем так — 90% вероятности его полного провала). Афганцев отфильтруют. «Взяточники» ан масс вполне себе патриоты (просто так уж там устроено общество): сами сдадут тех своих «клиентов», в ком заподозрят агентов Израиля (спецслужбы там тоже понимают, в каком обществе живут, и в такой ситуации за сами взятки прессовать не станут). Исходя из того, как резво пошла охота на шпионов (судя по попыткам самоубиться с помощью цианида кого-то из главных подозреваемых — действительно шпионов, это не какая-то ИБД со стороны спецслужб), скоро проблема будет в основном решена.
Ну, а что касается возможного переворота, то практика показывает, что заговорщики либо добиваются успеха сразу, либо не добиваются вообще — и, похоже, свой шанс они упустили (если вообще существовали в природе, тут нет уверенности).
Отметим, что вмешательство в войну для Трампа вопиюще невыгодно по внутриполитическим причинам. Так что, несмотря на явные признаки подготовки к операции, всё же вероятность её не выглядит очень высокой (ну не больше 50%).
А тогда мы оказываемся в каком-то из первых трёх сценариев, сводящихся, если исключить ядерную войну, к двум: к быстрому или к медленному поражению Израиля.
Поражение Ирана возможно, если противнику всё же удастся спровоцировать там внутренние беспорядки, но это выглядит маловероятным.
PS: В принципе, Трамп может нанести удар по Ирану, но «условный» — не задействуя серьёзных сил. Так он в первую каденцию делал в отношении Сирии. Но это ситуацию не поменяет — и потому нет смысла это учитывать.

Так вот по «ИИ-войне» (она же «война пятницы, 13-го»).
Ситуация с начала событий уже отчасти прояснилась. Получается, что начиналось всё примерно так:
1. Основной удар был исходно нанесён дронами ближнего радиуса действия изнутри самого Ирана. Атака была направлена на персоналии, объекты ПВО, другие военные объекты. Атомные объекты — в последнюю очередь, «по остаточному принципу»: они подземные, вот наземную инфраструктуру кое-где порушили.
2. Поддержан этот удар был атакой израильской авиации, которая воспользовалась распадом ПВО Ирана по меньшей мере в западной части страны. Цели ударов — те же, но самолётами в целом старались не рисковать.
0. Большую роль сыграло уничтожение верхушки КСИР и др. силовых структур. Для того, чтобы спровоцировать совещание, на котором её и накрыли, потребовалась специальная сложная операция накануне.
3. При этом манифестировалось, что все разрушения — результат воздушных ударов, а израильская авиация ходит в воздушное пространство Ирана, как к себе домой. По мере появления в информационном поле подробностей о дроновых атаках, шло признание всё большего значения диверсионных действий, но на исходный тезис это влияло в минимальной степени.
4. Заранее, до ударов, гражданские самолёты Израиля покинули страну и укрылись в Турции и на Кипре.
5. Вроде бы уже после ударов Б. Нетаньяху покинул территорию Израиля и «во избежание» направился в Грецию.
6. Ирану был предъявлен ультиматум о денуклеаризации.
7. Где-то по прошествии 12 часов Иран преодолел последствия дезорганизации силовых структур и отверг ультиматум.
8. Ночью были нанесены ответные удары Ирана по Израилю. Как и следовало ожидать по прежним «кейсам», израильско-американская ПВО «захлебнулась» и многие ракеты прошли. Помимо обычных баллистических, использовались и иранские гиперзвуковые ракеты — несколько уступающие российским в точности, но отнюдь не в разрушительной силе. Так как их перехватить западная ПВО пока не может даже теоретически (за отсутствием в её распоряжении собственных гиперзвуковых ракет, на которых можно было бы отрабатывать такой перехват), эффективность их была ограничена только точностью наведения.
С тех пор так оно всё и продолжается. Утром Израиль наносит удары по Ирану, часто пытаясь выдать диверсионные атаки изнутри за авиационные удары извне. Вечером-ночью Иран бьёт в в ответ.
Вроде как на одном из атомных объектов Ирана обнаружена утечка радиации. Но не слишком значительная: могла возникнуть при повреждении наземных коммуникаций (подвозят же туда как-то материалы и вывозят же как-то отходы и продукцию?).
Иран стал объектом и чисто террористических атак — вроде подрыва водопровода в Тегеране. Наносились отдельные удары по нефтяным объектам, но не в массовом порядке
Израиль максимально блокирует информацию об ущербе, явно пытаясь создать впечатление о полном провале иранского «ответа». Признаётся только то, что не признать затруднительно. Среди такового — разрушения в правительственном квартале Тель-Авива (здание Минобороны), институте Вейцмана (крупный научный центр, где занимались в том числе и атомной проблематикой), поражение НПЗ в Хайфе (фонтан огня на полнеба трудно было бы «не заметить»), портовые объекты.
Действия по перекрытию Ормузского пролива Ираном заявлены, но официально не реализованы пока.
На третий день боевых действий иранские спецслужбы нашли большие запасы взрывчатки и неиспользованных дронов — и начали производить аресты (с тех пор они идут по нарастающей). В Израиле, в свою очередь, арестовывают тех, кто снимает разрушения.
В ночь с 15-го на 16-е Нетаньяху заявил о достижении целей (мол, всё, что нужно, разрушено) и прекращении ударов (является ли это событие следствием предыдущего — неясно). Трамп, исходно условно поддержавший удары, выступил с инициативой примирения… Зато КСИР, напротив, стали говорить о том, что стремятся к «ликвидации сионистского режима». [А тут ещё и опять какие-то подозрительные подземные толчки в Белуджистане…]
Ну вообще-то положение Ирана явно смотрится предпочтительнее. У Израиля исходно был расчёт на психологию, создания информационной картинки — мол, всё пропало, Иран уничтожен/капитулировал, пора сдаваться / поддерживать Израиль / восставать против «режима аятолл».
Раз иранское руководство и население не «повелись», а в мире нападение было воспринято без особого понимания — то шансы Израиля сразу резко упали.
1. У него нет достаточного для долгой — многомесячной — борьбы запаса ракет и противоракет. Более того: не факт, что такое количество есть вообще в мире — учитывая, сколько всего было потрачено на Украине и каковы вообще сегодня производственные возможности Запада.
2. Дроны и диверсионные группы внутри Ирана скоро — в течение пары недель, наверное — у Израиля закончатся.
3. Со стороны это будет выглядеть, как радикальное снижение возможностей Израиля (или неожиданное повышение уязвимости его авиации) — и повышение возможностей Ирана (ПВО Израиля зримо ослабнет).
4. Иран начнёт получать в значительных количествах помощь извне: из Китая через Пакистан, в частности (похоже, уже получает). А в связи с ратификацией всеобъемлющего договора с Россией — и с нашей стороны тоже (по меньше мере помощь консультационно-организационную мы и в нынешнем положении можем оказать, да и отдельными специалистами тоже).
5. Если продлить в будущее все тенденции, которые имеют место сейчас, то у Ирана ракеты в итоге окажутся в дефиците, но БПЛА он сможет по-прежнему запускать в больших количествах. Израиль же будет пропускать и такие — почти чисто БПЛА-шные — удары из-за истощения ПВО. При этом сам Израиль удары будет наносить весьма дорогими ракетами. Ирану будет трудно их перехватить, но он, имея в 75 раз большую площадь и в 8 с лишним раз большее население, обладает куда большей способностью «держать удар». Он может эвакуировать уязвимые объекты из западных районов, децентрализовать производство и т. п. Израиль же для чего-то подобного просто слишком мал.
То, что Иран чувствует себя вполне уверенно, а вот Израиль — как раз не очень, видно и по их поведению. Израиль на второй день войны обратился за помощью к США. Иран же так и не стал блокировать Ормузский пролив — похоже, не воспринимает ситуацию как критическую (вероятно, это оставлено на случай прямого вмешательства США). Риторика Израиля не то, чтобы «снижает градус» — скорее, она неровная, то заявляется о том, что цели атаки на Иран уже достигнуты, а то — о том, что Хаменеи — легитимная цель… Иран же официально выступает с тех же позиций, что до обострения — мол, не стремится к ядерному оружию и готов к переговорам. Но с другой — в парламенте обсуждается выход из ДНЯО, а КСИР говорит о ликвидации сионистского режима…
Впрочем, об этом лучше отдельно.
Если вкратце: пока Иран имеет преимущество, но ситуация весьма неустойчивая.

В общем, пока по результатам «войны пятницы, 13-го» ясности нет, вспомним-ка про начало месяца. Неожиданно операция «Паутина» снова стала актуальна. Сейчас будет понятно, почему.
Ну да, ситуация с подрывом мостов — это была только часть операции, как и говорилось (самое начало). Версия-прикрытие действительно появилась (как и предполагалось): мол, мосты сами упали от ветхости, это по чистой случайности совпало с дроновым ударом по аэродромам…
За мостами последовали упомянутые атаки на аэродромы стратегической авиации (всё было сделано для того, чтобы спровоцировать массированный ответ России — в соответствии с действующей военной доктриной, он мог бы быть даже ядерным).
*Что касается реального ущерба от ударов по аэродромам:
Похоже, он чувствителен, но несравним с тем, что рисует украинская пропаганда. Вроде как точно имеет место повреждение ~10 самолётов (в т. ч. 4 или 5 штук Ту-95), но противник рапортует о полном уничтожении что-то около 40. То есть рисуется мега-успех, «Перл-Харбор», практически — при довольно умеренном реальном ущербе.*
У нас при анализе обычно на этом заканчивают изложение событий — и дальше рассуждают о том, какой в этом был смысл.
Он, в общем-то, понятен. Внутренняя задача для Украины — «добыть копиум» (то есть организовать духоподъёмную «перемогу»), что необходимо для продолжения боевых действий — это на какое-то время может укрепить фронт. Плюс ответственность на себя взял Малюк (СБУ), а не Буданов (ГУР МОУ). Это усиливает его аппаратные позиции на Украине — и несколько ослабляет будановские. А глава ГУР Зеленским воспринимается как один из конкурентов.
Также действительно чувствуется участие спецслужб глобалистской части Запада. Тут задачей видится спровоцировать срыв переговоров. Выдвижение нереалистичных требований со стороны Украины (но аргументом в их пользу будет факт проведённой операции) — отказ России — обвинение России в нежелании учитывать реалии. На тот момент в Стамбуле только ещё предполагался обмен меморандумами о желаемых параметрах перемирия/мира. Позиции сторон и так были крайне далеки. Вот, чтобы они ни в коем случае не сблизились, операция и была предпринята…
Так ведь было дело?
Не совсем.
Дело в том, что у нас забывают про последовавший вечером того же дня удар по Крымскому мосту. Его оборона сработала штатно, БЭКи были уничтожены — и в итоге у нас про это просто забыли. Но это ведь — тоже часть операции «Паутина»! Причём, зная украинцев, можно предположить, что с их точки зрения — важнейшая.
И, самое главное, не факт, что на этом она должна была завершиться. Вполне возможно, что готовились и ещё удары, отменённые из-за провала третьего и очень относительного успеха второго.
Не знаю, что это могло бы быть. Но допустим, что у них всё произошло так, как они хотели… Как бы развивались события?
1. Теракты на транспорте. — Тревожные службы отрабатывают возможность других подобных атак.
2. Удары по аэродромам. — Спецслужбы перенапрягаются, пытаясь ещё и проверить все подозрительные фуры и т. п.
3. Удар по Крымскому мосту. — Ситуация выходит на уровень серьёзного кризиса, требующего координации усилий силовых структур, создания общего штаба…
4. -? Удар по этому штабу?
В общем, недостаточно информации. Но я бы не стал исключать, что где-то и сейчас есть запас недоиспользованных в «Паутине» дронов. В районе Москвы, скорее всего.
Второй вариант — что предполагался удар по объектам флота (не факт, что Черноморского). Тогда запас дронов — где-то в Северо-Западном регионе.
Что характерно, удар, по расчётам, готовился около года (минимум — несколько месяцев). Очевидно, на него возлагались большие надежды. С Украины спроса нет. Но её кураторы-то чего в качестве реакции ожидали?
Нечто подобное можно сделать один раз. Потом Россия будет настороже, да и в ответ может бить сколько угодно (и не только по Украине)…
ИМХО, тут надо учесть два момента.
1. Опять же — противник исходил из того, что операция будет успешной. Тогда цифра в «40 уничтоженных стратегических бомбардировщиков», скорее всего, показывает, что ожидалось. Ожидался действительно серьёзный ущерб воздушной части российской ядерной триады. А возможно, что под ударом оказалась бы и морская. Или система локальной ПРО Москвы…
Игра эта идёт в пользу… Кого?
Ну явно же не Украины! Ей от того «ни тепло, ни холодно». Европы/Британии? Хоть английский, хоть французский, хоть их общий ядерный арсенал при максимально возможном ущербе для российских СЯС от операции всё равно, скажем мягко, в разы будет уступать российскому.
Объективно это в пользу США, разумеется. Но не факт, что США об этом просили. Но вот обострить отношения России с США это могло бы. Особенно если бы ещё и удар по персоналиям из российских силовых структур бы произошёл…
Ну да: ядерную войну бы это едва ли спровоцировало. Думается, игра велась в расчёте на возвращение США к активной поддержке Украины. И, косвенно, к разочарованию в Трампе изоляционистской части его электората (а она как бы ни доминирующая).
2. То, что все стрелки перевели на Малюка, а не Буданова, тоже показательно. Буданов украинскими аналитиками рассматривается как британская креатура. А вот Малюк — как «свободный игрок», более близкий к американцам. Тогда списать на него операцию «Паутина» — как раз подтвердить «американский след».
Ну вот примерно такая операция была. В основном — провалившаяся, к счастью. Какой на неё должен быть ответ, можно долго рассуждать.
Во-первых — может не быть никакого (ну — так: что-то по мелочи для успокоения общественного мнения). Сам факт того, что противник пускается во все тяжкие означает, что дела у него плохи. То есть и следует бить в ту же точку, в какую до сих пор били. Это, кстати, даёт возможность максимально долго разыгрывать именно карту терроризма: удар по мостам — несомненный акт террора.
Во-вторых — можно расширить номенклатуру поражаемых объектов и т. п. Но для этого и так основания дополнительные не нужны.
Третий вариант — проблемой является выращенное нашей «стратегической» рамкой восприятия событий бесстрашие украинской элиты. Мы смотрим на происходящее «с большой высоты»: ситуация стратегически выигрышна, нет смысла особо вдаваться в тактику (а фамилия конкретного генерала — это тактический уровень). Но это уже начинает создавать проблемы: тамошнее руководство слишком уверовало в свою неприкосновенность. Так что можно и снизойти до персональной «ответки»: благо, обвинение в терроризме это легко позволяет.
Первый на «выбывание» — Малюк. Но есть и другие варианты.
Что касается «ответки» британцам или кому, то… То она наверняка будет, вот только мы о ней можем и не узнать. Мы не сможем открыто рассказать об ударе по кому-либо за пределами зоны конфликта. Они тем более не смогут рассказать об ущербе, так как возможность ответить у них отсутствует (не войну же нам, действительно, объявлять?). Так что узнать о результате мы сможем либо гораздо позже, либо случайно.
PS: Основная проблема тут…
Впрочем, об этом лучше отдельно потом.
PPS: Ну да: и вот теперь посмотрим на события «пятницы, 13-го»…

Если кому неохота вдаваться в сложные тексты, то простой ответ на этот вопрос заключается в том, что исходно речь шла о победе Ельцина над Горбачёвым (принятие Декларации о суверенитете РСФСР — оно и есть).
При всей ностальгии по СССР нужно понимать, что по состоянию на момент распада фактически «СССР» = «Горбачёв», увы. И речь шла о том, оставить его у власти — или нет. При всей неприязни к Ельцину стоит признать, что во главе страны он был гораздо менее опасен.
Ельцин был всего лишь руководителем средней руки, волей судьбы заброшенным существенно выше уровня своей компетентности. Это привело ко многим проблемам, но всё же он не был иррациональным разрушителем. А вот Горбачёв, такое впечатление, иногда вёл себя именно таким образом. Ельцину естественное властолюбие не позволяло сдать всё. У Горби же явно была сверхидея, ради которой не жалко ничего…
В общем, исходно мы отмечали правильный выбор из двух зол.
Написано в 2020-м. Базовый прогноз оправдался. Но он был слишком очевиден.

12 июня 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР — на тот момент в составе СССР.
12 июня 1991 года Б. Н. Ельцин был избран первым президентом РСФСР
12 июня 1999 года состоялся «марш на Приштину»: первая серьёзная внешнеполитическая силовая акция РФ и первое её столкновение с Западом.
Одним словом, 12 июня сейчас отмечается День России.

Первые два события на настоящий момент оцениваются очень двойственно: развал СССР с последующей экономической и общесоциальной катастрофой стал следствием в том числе и принятия Декларации о суверенитете, а Ельцин, мягко говоря, не оказался гением государственного строительства. Приштинский бросок, конечно, другое дело, но не маловато ли его одного?
К тому же причина, по которой на самом деле праздником стало именно 12 июня, понятна: это день условной победы — первой из многих — Ельцина над Горбачёвым. Собственно, именно с необходимостью устранения Горбачёва и был связан роспуск СССР (нет СССР — нет и его президента). То есть это значимое событие для Ельцина и его ближайших сподвижников, но точно ли его годовщину имеет смысл отмечать кому-то ещё?
Имеет. И вот почему.
Потому, что, если называть вещи своими именами, СССР на тот момент уже не существовал. Формально он был, но фактически Горбачёв давно взял курс на интеграцию страны в Запад. Это превратило бы последний в объединённый развитый «Север», противостоящий разрозненному развивающемуся «Югу».
Сложился бы некий «мега-ЕС», являющийся одновременно и «мега-НАТО» (впрочем, как раз единство военной инфраструктуры было не так уж обязательно). У этого блока под контролем оказалось бы 99% мирового ядерного оружия — и 100% мирового хайтека. Фактически, вне прямого контроля из мощных военных держав оказываются только Китай и Индия. Но они, конечно, не имели бы никаких шансов против советско-американского блока и вынуждены были бы подчиниться его диктату.
Нынешняя разваливающаяся американская гегемония — да даже и американская гегемония на её «пике формы», 1990-х годов — «щенок с мокрым носом» в сравнении с той «общесеверной» гегемонией, которая должна была бы возникнуть, пройди действительно всё по плану.
Сформировалась бы истинно глобальная элита, не связанная ни с каким конкретным государством. «Трилатераль» превратилась бы в «Тетралатераль». Основную ударную силу её составлял бы СССР. Экономическим лидером сначала были бы США, но… Но интеграция ресурсонедостаточной экономики Европы и богатой ресурсами экономики СССР произошла бы очень быстро. Куда-то туда, в этот регион — объединённый советско-европейский — вероятно, и переехал бы со временем мировой центр.
Остальной мир оказался бы объектом жесточайшей неоколониальной эксплуатации. Все альтернативные центры силы были бы подавлены.

Неясно, насколько стабильна была бы такая система мироустройства, но, в общем, не видно, что бы ей угрожало в краткосрочной и среднесрочной перспективе: конкуренции ни с чьей стороны нет и не предвидится, все проблемы метрополии сбрасываются на периферию. Возможности к сопротивлению у стран периферии незначительны…
Естественно, Объединённый Север впал бы в стагнацию: конкурировать ему не с кем, а любые изменения для него, и так обладающего мировой властью, будут в лучшем случае нейтральными, а то и ухудшающими его положение (улучшиться оно не может: объективно ему «некуда лучше»). Но это уже не имело бы значения.
Собственно, даже в прошлом, когда существовала острая международная конкуренция, страна, совершившая очередной шаг прогресса, обычно после этого «почивала на лаврах» — и пропускала следующий шаг.
Испания и Португалия, начавшие Великие Географические открытия, не смогли создать полноценное индустриальное общество — это сделала Голландия/Нидерланды. Она, в свою очередь, создав мощную мануфактурную промышленность, опоздала с её механизацией — и цивилизационная инициатива перешла к Англии. Англия промедлила с переходом к третьему технологическому укладу — и лидером мира в тот период стали США. Теперь же и от них лидерство перетекает в Азию…
А в рассматриваемом варианте развития событий никакой конкуренции нет. Скорее всего, очередной шаг прогресса — компьютеризация, возможно — распространение компьютерных сетей — оказался бы и последним. Зачем рисковать, к примеру, с роботизацией? Вдруг в какой-то из периферийных стран благодаря ей поднимут мятеж? Маловероятно, конечно, но ведь можно обойтись вовсе без риска…
Так что — стагнация неизбежна. Очень длительная: до тех пор, пока внутренние проблемы в гегемоне не расколят его или не ввергнут в кризис, что даст возможность кому-то из стран периферии выйти из-под контроля метрополии…
И именно развал Союза стал начальным звеном в цепи событий, приведшей к нынешнему положению вещей: неидеальному, но куда более приемлемому. С объективно ослабшей относительно Союза и пребывающей в жесточайшем кризисе Россией делиться дивидендами от власти над миром западные элиты не захотели. Это резко сократило силовые возможности гегемонии, ужавшейся от Севера до всего лишь чуть расширившегося Запада. Теперь она владела едва половиной мирового ядерного арсенала (но, так как в России бушевал кризис, иллюзия контроля над миром у западных элит всё равно возникла).
При этом утечка современных технологий с постсоветского пространства привела к технологическому рывку в основных силовых центрах Третьего мира, а в перспективе — к их резкому усилению.
В частности, первый китайский авианосец, «Ляонин» — это бывший советский/украинский «Варяг», «систершип» отечественного «Адмирала Кузнецова». Новый индийский, «Викрамадитья» — бывший советский/российский «Адмирал Горшков». Также Китай и Индия получили массу технологий в области авиации и ракетной техники, В частности, с этим было связано и резкое ускорение китайской космической программы, увенчавшееся пилотируемыми запусками («Шэньчжоу» — практически копия «Союза»).

Уже на тот момент — начала 1990-х — общая логика событий была вполне предсказуема. Ясно было, что рано или поздно кризис в России закончится, а ядерный арсенал её не растворится в воздухе. Это приведёт к возобновлению геополитического конфликта: Россия потребует своё — то, что ей было обещано ещё в бытность её СССР. Но западные элиты, успевшие поверить в свою исключительность, откажутся — и тогда Россия отшатнётся к усилившемуся Китаю…
При этом глобальные элиты на три четверти оказываются связаны с одним государством — США. В связи с этим исподволь будет идти конкуренция глобальных элит и национальных элит США: их интересы совпадают далеко не полностью. Рано или поздно они рассорятся… Именно это мы с 2016 года и наблюдаем.
Сейчас спрогнозировать дальнейший ход событий уже нетрудно: власть глобальных элит будет, с одной стороны, всё больше ограничиваться внешним противником — Россией, Китаем и прочими недовольными, с другой — внутриамериканским «мятежом» Трампа. Итогом станет падение глобалистов: им просто не на что опереться.
Запад распадётся на американскую и европейскую части, мир фрагментируется и вступит в фазу «турбулентности». Новые центры силы будут взаимодействовать между собой… но уже без глобализма в его традиционном виде.

Так что есть все основания порадоваться 12 июня. «Ельцинлэнд» 1990-х кажется отвратным только потому, что мы «отменили» мировую гегемонию, в которой бывший СССР — неизвестно, как назывался бы горбачёвский «домен» в объединённом Севере — обладал бы куда меньшей самостоятельностью…
Возможно, правда, что поначалу он был бы богаче. Но итогом стала бы вековая стагнация мира как целого: до какого-нибудь объективного действительно глобального кризиса. Не факт, что хотя бы сотовые телефоны успели бы распространиться до остановки прогресса.
Естественно, при этом нет никаких оснований приписывать Ельцину и его присным лавры спасителей мира от такой глобальной гегемонии. У того, что глобалистская революция в СССР провалилась, были свои причины. Мы их рассматривали здесь:
В будущем мы ещё не раз вернёмся к этой теме.
PS: США упустили шанс на действительно мировую власть. Они имели все возможности её всё же установить. Для этого им следовало, во-первых, обязательно подружиться с раннепостсоветской Россией, во-вторых — несколько дистанцироваться от прежних союзников.
РФ той поры для США — идеальный союзник: с её территории можно действовать почти по всей Евразии, вместе с ней США владеют почти всем мировым ядерным арсеналом, и при этом она значительно слабее и ещё не скоро сможет стать опасной. Достаточно было бы, к примеру, поддержать идею воссоединения русского народа как крупнейшего разделённого — и слабая и экономически проблемная РФ втянулась бы в изнурительные «малые» войны с другими постсоветскими странами, крайне нуждаясь во внешней опоре.
Европа бы была против этого — и в итоге российско-европейское сближение было бы предотвращено, а США заняли бы в конфликте позицию «разводящего». Но…
Но США вовсе не были готовы к тому, что СССР распадётся. Они, фактически, стали себя вести так, как если бы это действительно произошло в результате некоего «поражения СССР» (можно подумать, что они с Горбачёвым «воевали»!), и, фактически, США разменяли этот шанс на крупный, но вполне локальный успех.
Позже изложу эту мысль более подробно.
PPS: На картинке, где изображены авианосцы, внизу справа — достопримечательность. Флаг, вероятно не все узнали. Это «Чакри Нарубет», лёгкий авианосец Военно-морских сил Королевства Таиланд. Тайский авианосец считается самым маленьким в мире на настоящий момент. Но и этот малыш способен нести до 14 летательных аппаратов, хотя по водоизмещению уступает даже нашему «Кузнецову» почти в 6 раз.

Одновременно «Чакри Нарубет» (название переводится как «династия Чакри») выполняет функции «королевской яхты» (единственный такой случай!) для членов королевской семьи Таиланда: на борту имеются «королевские апартаменты».
Н-да: тайские монархи — крутые ребята…
Конец статьи 2020 года
Вообще-то можно заметить, что вот как раз сейчас, при втором сроке Трампа, в США проявляется линия «дружить с Россией, отдалившись от Европы». Но в наше время, конечно, уже поздно — «поезд ушёл».

На этот счёт я писал довольно много, сейчас выложу и тут.

Статья 2023 года. Тоже выкладываю и тут:
Как известно, день рождения НашегоВсего принимается за условный день русского языка. Язык входит в культурный код народа, и его особенности для понимания этого кода очень важны. Впрочем, о том, как русский язык влияет на наш культурный код, поговорим отдельно.
Но в первую очередь нужно понимать, что русский относится к числу «языков идентичности», а не «языков коммуникации». То есть он аналогичен по своей роли для говорящих на нём арабскому или французскому (тоже языкам идентичности), а не английскому (языку коммуникации).
Очень долго в Европе «быть цивилизованным» означало «знать французский». А французская культура долго доминировала в Западной Европе (и через её посредство оказывала влияние на весь мир). При этом французский — язык идентичности, так что все «цивилизованные» становятся «слегка французами».
А «быть мусульманином» означало хоть чуть-чуть понимать арабский: Коран долго не переводили — тем более, что на арабском это поэтический текст. И в итоге каждый мусульманин становился «слегка арабом» (даже если арабов как таковых не любил).
У нас — то же самое: невозможно знать русский — и не стать «в какой-то степени русским». Мы же однозначно носителей русского языка воспринимаем как если не в национальном, то в цивилизационном смысле «своих». Да, носитель русского может воевать против других носителей: единая цивилизационная принадлежность не означает политического единства (западноевропейцы, древние греки, китайцы в основном войнами между собой и были заняты). Да, «цивилизационно свой» может быть врагом… но он всё равно понятнее чужого.
По этой причине, кстати, «новые независимые страны» так «клинит» на языковых вопросах. Во-первых, они хотят отграничить себя от русских. Во-вторых — и это важнее — они, будучи всё равно частью российской цивилизации, хоть и врагами России как таковой, сохраняют наше отношение к языку. И потому пытаются просто вместо русского языка сделать признаком идентичности какой-то другой. Это глупо: куда разумнее для них было бы просто отказаться от этого критерия идентичности вообще. Грубо говоря, «форсить» не свой (в мире совершенно неизвестный) язык, а английский (к примеру), параллельно ведя пропаганду, что языковые вопросы вообще вторичны. Но они на нас слишком похожи — и не могут иначе.
Русский язык относится к верхушке «языкового континуума»: «зональный» язык локальной цивилизации, один из языков ООН. Но его роль этим не ограничивается.
Особый статус мире имеют языки, на которых написаны «мировоззренческие» тексты: сакральные, идеологические, философские… Те, на которых описан некий внятный образ будущего (который теоретически мог бы быть распространён на всё человечество). И русский — именно таков… но об этом тоже лучше поговорить отдельно, уж больно тема объёмная.
А в наше время, когда по миру идёт волна деглобализации и планета скатывается ко всё более жёсткому противостоянию, русский язык — одна из наших цивилизационных основ — обретает особое значение.
Об особенностях нашего культурного кода, связанного с особенностями языка, поговорим позже.
А пока что — вспомним НашеВсё и отметим начало «Недели России» (с 6 по 12 июня, да)…

Статья 2021 г. Выкладываю и тут:
В день рождения Нашего Всего традиционно отмечается ещё и День русского языка. Считается что Пушкин если не создал, то завершил создание литературного русского.
Разумеется, язык развивался постепенно. В своё время древнерусский сложился из многочисленных восточнославянских диалектов, различавшихся между собой иногда довольно сильно.
Причем роль письменного языка изначально выполнял церковнославянский: язык, родственный древнерусскому, но всё же отличный от него. Что и не удивительно: создан он был на базе южных славянских диалектов (ну не было у византийцев других славянских языков в свободном доступе…).
Позже постепенно развился вроде бы и светский письменный русский язык. Но тут произошел индустриальный переход: с превращением сословно-представительской монархии в абсолютную и реформами при Петре пришёл огромный вал заимствований из немецкого и голландского. Ко временам Ломоносова в русском языке царил полный раздрай.
Ломоносов начал процесс создания современного литературного русского. Он самолично ввёл в язык огромное число новых слов — либо путём заимствования (скажем, «квадрат»), либо калькирования с греко-латинских оригиналов («насекомые», «огнедышащие горы» т. д.). Ему принадлежит знаменитая теория «трех штилей»: возвышенного, делового и «низкого». Для нас такая система звучит это хоть и понятно, но всё-таки странновато.
Пушкин же, по сути, объединил «штили» на базе того языка, на котором реально говорили в его время широкие слои населения. В том числе он дал прописку в языке большому количеству иностранных заимствований — в основном, французских или же греко-латинских через посредство французского языка.
С тех пор мы, в общем-то, говорим на языке Пушкина, русский за два столетия изменился очень слабо. Несколько изменилось произношение — со старомосковской нормы на новомосковскую, но сам язык почти что и нет. И это несмотря на революцию и все события и пертурбации XX века.
Не всем так повезло. К примеру, польский язык Мицкевича 200 лет назад был гораздо ближе к русскому, чем современный польский. Ну, то есть, поляки, конечно, его поймут… но ведь «Слово о полку Игореве» в общих чертах мы тоже поймём, однако перевод не помешает.
Сейчас язык, разумеется, меняется опять. Масса заимствований — англоязычных и опять-таки интернациональных греко-латинских, но полученных через посредство теперь уже английского. Развивается третий тип речи — речь коротких сообщений. Она не письменная и не устная: это особое явление, возникшее только с появлением сотовой связи и Интернета. Но нечто похожее происходит сейчас почти во всех языках.
Как бы то ни было, языковой проект Пушкина оказался более чем успешен. Русский является зональным языком постсоветского пространства. Перспективы его дальнейшего развития зависят от многих обстоятельств.
Но это мы исследуем позже.
PS: Есть, кстати, даже предложения перенести День России с невнятного 12-го на 6 июня — когда мы хотя бы понимаем, что празднуем…
Информация постоянно обновляется. Противоречивые утверждения, непонятно, какие из них более свежие.

В общем, «выжимка» пока такая:
1. Произошёл подрыв ж/д-моста.
2. Вследствие этого произошла авария пассажирского поезда (в 22.41 по местному времени, совпадающему с московским).
3. Есть погибшие (3 или 4) и раненые (от 20+ до 40+). Среди раненых как минимум один ребёнок.
4. Вроде как взрывное устройство (скорее, несколько) было заложено в опоры моста.
Если всё так, то ситуация, конечно, довольно прозрачная. Кому нужно именно сейчас — за полтора дня до новой встречи в Стамбуле — спровоцировать эскалацию, мы все прекрасно понимаем.
Отмечу два момента.
1. Это, скорее всего, только часть операции противника (украинских спецлужб, вероятно — с помощью британских или французских). Но ниоткуда не следует, что Россия отреагирует на произошедшее быстро и резко. Зная психотип Путина — скорее, наоборот: он никогда не идёт на поводу у провокаторов.
Кроме того, «на войне — как на войне»: по меркам новых регионов, скажем, ущерб от теракта большой, но отнюдь не беспрецедентный. Да и по меркам Крыма. То есть с ответом на этот удар разберутся «в рабочем порядке».
Значит, нужен второй акт драмы. Теперь удар должен быть нанесён по украинскому «мирняку». Должен произойти какой-нибудь ракетный обстрел (скажем, ночью накануне переговоров), который бы привёл к несоразмерным — многократно большим — гражданским потерям на Украине (мол, Россия мстит). Так как Россия, понятно, такого подарка противнику не сделает, украинским спецслужбам придётся заняться этим самостоятельно.
Я бы на месте украинцев в людные места в ближайшие несколько дней не совался.
2. Для организаторов теракта логично было бы озаботиться прикрытием. Создать версию событий, которая бы отводила внимание от Украины. Ну, как с Крокусом было, где в качестве исполнителей наняли приезжих из Средней Азии. Здесь тоже было бы рационально сделать нечто в этом духе.
Могли, конечно, решить уже не утруждаться, но всё же я бы не стал исключать, что будет вброшен какой-нибудь ИГИЛовский, сирийский и т. п. след. Цель — дополнительно стимулировать антимигрантские настроения и усилить российских внесистемных мигрантоборцев (с ними связаны основные надежды на «майдан»).
С нашей стороны реакция, скорее всего, будет максимально выверенной… Впрочем, тут уже как получится. Но у нас сделают всё возможное, чтобы переговоры в Стамбуле состоялись (или, по крайней мере, чтобы все видели, что Россия сделала для этого всё возможное).
Пока всё, следим за событиями.
Вопреки распространённому мнению, Третий Рейх вовсе не перестал существовать 8/9 мая 1945 года. Поражение в войне само по себе ещё не подразумевает исчезновение государства, даже если речь идёт о безоговорочной капитуляции.

Да, Гитлера уже не было в живых, но он оставил преемников. Пост фюрера (вернее, восстановленный пост рейхспрезидента) он завещал гросс-адмиралу Карлу Дёницу, командующему Кригсмарине (ВМФ Германии), а пост рейхсканцлера — Йозефу Геббельсу. Геббельс покончил с собой вслед за Гитлером, но Дёниц принял власть — и предложил стать рейхсканцлером графу Людвигу Шверину фон Крозигу, аристократу, бессменному министру финансов Германии, который стал таковым ещё до прихода к власти нацистов. Шверин принял должность, но она была переименована: глава кабинета теперь именовался «главным министром».
Даже после капитуляции не вся территория Германии была оккупирована. В Шлезвиг-Гольштейне, севернее Кильского канала, вне контроля армий Союзников остался небольшой район — город Фленсбург с окрестностями. Вот там и сидело правительство Дёница — совсем недалеко от датской границы.

Относительно того, что же с ним делать, единства среди Союзников не было. СССР и Франция были настроены на бескомпромиссную денацификацию: никаких следов Третьего Рейха не должно остаться. Властью в Германии на переходный период должен стать Контрольный совет, составленный из представителей 4-х держав-победительниц. Но фактически на тот момент его ещё не существовало: сформирован он будет только 5 июня.
А вот Британия и США по инициативе британского премьера Уинстона Черчилля всё ещё вели предварительные расчёты в соответствии с планом «Немыслимое», подразумевавшим попытку выбить советские войска из Европы на территорию СССР (то есть — войны с Советским Союзом сразу же по окончании войны с Германией). Британцы и вовсе свели всех интернированных и военнопленных немцев в единую структуру — армейскую группу со всеми положенными элементами во главе с генералом Мюллером-Гиллебрандом (позже — «армейская группа „Норд“»). У американцев всё было не так откровенно, но, тем не менее, готовые, если что, получить оружие и снова пойти в бой немцы имелись под контролем и у них.
Соответственно, Британия и США пытались продвинуть идею, что существование правительства Дёница и Шверина как раз облегчит денацификацию. Но СССР твёрдо стоял на своём: Третий Рейх должен быть ликвидирован полностью — чтобы и малейших следов не осталось.
И вот 20 мая представители Союзников прибыли во Фленсбург. Советских представителей возглавлял заместитель командующего Группы Войск в Германии по разведке генерал-лейтенант Николай Михайлович Трусов (по отзывам людей, его знавших — человек поразительной личной храбрости), будущий глава ГРУ. И обнаружили, что в городе… существует Третий Рейх со всеми атрибутами: всеми структурами — по СС и НСДАП включительно, гражданскими и военными властями — в частности, Генштабом во главе с Альфредом Йодлем (планировавшим в своё время основную часть кампаний Вермахта в начале войны). Всё — в свастиках и портретах…
Ещё два дня ушло на последние споры — и вот 23 мая арест Дёница и всех его присных был произведён. Сопротивления не последовало. Командующий Кригсмарине адмирал Фридебург покончил с собой, но остальные нацистские лидеры предпочли сдаться.
В тот же день было объявлено об аресте экс-командующего Люфтваффе Германа Геринга (напоминаю: военнопленный или, тем более, интернированный по соглашению о капитуляции — это ещё не арестованный). И — опять же 23 мая — при попытке ареста покончил с собой бывший рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Считается, что он скрывался, переодевшись в форму младшего офицера, и был в этот день разоблачён, но, согласно другим данным, он продолжал вести переговоры — от лица Дёница — о сохранении нацистского государства в том или ином виде. И то, что это всё произошло в один день, как раз свидетельствует в пользу предположения, что вовсе он не скрывался…

То есть Третий Рейх перестал существовать как государство именно 23 мая 1945 года: его новый фюрер был арестован прямо в его новой столице…
План операции «Немыслимое» был утверждён тогда же — 22 мая. Его рассмотрело командование британских и американских войск — и пришло к однозначному выводу, что даже при наиболее благоприятных обстоятельствах наиболее вероятным результатом попытки его реализации станут советские войска на берегах Ла-Манша, причём нельзя исключать, что с обеих его сторон…

Летом Уинстон Черчилль проиграл выборы и уступил премьерский пост Клементу Эттли. Но соответствующие планы продолжали прорабатываться и при нём. В ноябре 1945-го потерявший терпение СССР, который, разумеется, был полностью в курсе всех этих телодвижений — благодаря «Кембриджской пятёрке» — потребовал инспекции британских лагерей для немецких военнопленных и интернированных… Окончательно немецкие военизированные структуры были распущены британцами только в январе 1946 года.
Британцы такие британцы…
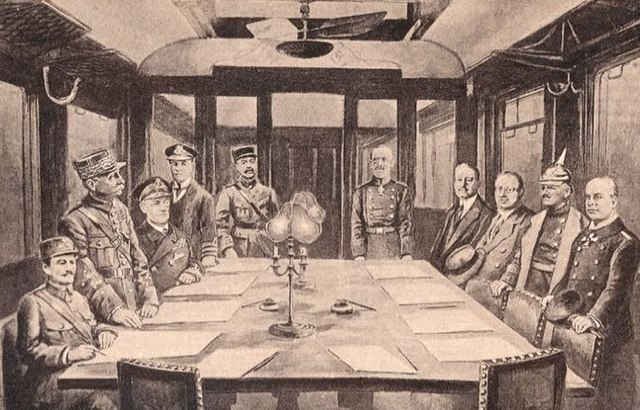
В индустриальную эпоху заключить компромиссный мир не так-то просто...

Ну, похоже, мы сейчас проходим последнюю событийную развилку. Ситуация зависла в неопределённости — но не очень надолго. Генсек НАТО, сказавший, что определяющими станут ближайшие две недели, как ни странно, прав. Либо мы действительно выруливаем на мир, либо… тоже выруливаем на мир, но после серьёзной эскалации (и этот мир может оказаться уже сильно другим, хотя и не обязательно).
Итак, два варианта развития событий по итогам прохождения этой точки бифуркации. Возможны успех переговоров — и провал. Какие это даёт сценарии?
1. Рассмотрим сначала второй сценарий — провал переговоров.
Если переговоры срываются или слишком затягиваются, Трамп выходит из игры, а поставки Украине вооружений и прочего из США как минимум сокращаются до того уровня, который может быть оплачен Украиной/её спонсорами на 100% прямо сейчас — а то и прекращаются полностью (но вряд ли: прослыть ненадёжным поставщиком оружия американской промышленности сейчас нужно меньше всего, то есть обещанное тамошние производители дадут).
Европа и Британия попытаются скомпенсировать выход США из войны, но практически наверняка получится плохо. Зеленский перейдёт к мобилизации с 18 лет и расширит женскую мобилизацию…
А дальше что? Это позволит Украине выиграть войну?
Как мы понимаем, вряд ли. Но Зеленскому, собственно, даже победа не так интересна, как сама война, которая позволяет ему оставаться у власти. На что он надеется, мы уже говорили.
То есть в первую очередь — на успех на поле боя, приводящий к затягиванию войны. Но Зеленский — это особый случай, у него довольно относительная адекватность. Но на что у глобалистов надежда? Это-то более серьёзные люди…
Полагаю, на «2023 год наоборот».
То есть там предполагают, что у нас всё ещё позиционный фронт, как и летом 23-го. Украина тогда не смогла провести наступление. Так почему у России дело лучше пойти должно?
Соответственно, там надеются на то, что, при срыве переговоров, произойдёт эскалация, и Россия растратит свои резервы в малопродуктивных атаках на украинские укреплённые позиции, а прорывов уровня Очеретино (или освобождения Курской области) больше не будет.
В этом случае в России произойдёт критическое снижение поддержки продолжения СВО. Путин всё равно будет её продолжать (так как слишком политически в неё «вложился»), следствием чего станет падение его рейтинга, которое, после ухода Трампа в 2028-м (или даже просто существенного ослабления трампистов осенью 2026-го) может стать для России фатальным. Результатом станут возмущение в народе, беспорядки — и смена власти.
Ну или просто под угрозой всего этого Россия заключит выгодный Украине и Европе мир.
У этого плана есть только одна большая проблема. Он основан на ошибочном предположении, что у нас имеет место «позиционный тупик». А это вовсе не так: с весны 2024-го война вышла из фазы позиционности.
*Как и почему это произошло, разберём отдельно. И это будет БОЛЬШОЙ текст.*
В связи с этим, весьма вероятен противоположный вариант: наступление ВС РФ окажется удачным, украинский фронт рухнет. Учитывая накопленное общее превосходство в силах, а также кризис украинской ПВО, отчасти и артиллерии (не говоря уже об авиации), шансы на большой успех России более чем имеются. Но Европа то ли идёт на риск, то ли… действительно не понимает ситуации.
Как ни странно это осознавать, вероятность того, что там просто не понимают, что позиционная война закончилась, отлична от нуля. В конце концов, в 23-м там ведь не отдавали себе отчёт в том, что война вошла в позиционную фазу, и «контрнаступ» практически гарантированно проваливается. Так почему они должны своевременно осознавать, что ситуация изменилась вновь (тем более, что это неприятная для них мысль…)? У них просто не хватает практического военного опыта.
Как бы то ни было, при эскалации задачей ВСУ станет любой ценой, жертвуя новомобилизованными 18-летними и женщинами, вообще кем и чем угодно — помешать России достичь серьёзных результатов в ходе наступления. Тогда у неё будет некий шанс (по крайней мере можно будет сказать, что Украина действительно сделала всё от неё зависящее).
Там уже будут какие-то варианты.
Ну, а если…
2. Первый сценарий: Стамбульские соглашения заключены, переговоры увенчались успехом.
Как это может выглядеть — и что будет тогда?
Да параметры мира так-то понятны. Они именно что старые «стамбульские».
Нейтральность Украины: невступление её в НАТО, а по нынешним временам, возможно, и в ЕС (коль скоро там тоже о собственной армии задумались).
Денацификация: уравнивание в статусах украинского и русского языка, отмена всех дискриминирующих законов, реформа образовательных программ, освобождение политзаключённых, роспуск нац. организаций по списку (возможно, с люстрацией актива).
Демилитаризация: ограничение численности ВСУ не особенно высоким «потолком» по основным параметрам.
Ну и территориальные условия: тут ситуация поменялась, прежний вариант уже не актуален.
По сути, говорить делегациям всерьёз придётся только о последнем пункте: начертании на местности границ/зон контроля. Всего лишь.
Ну да, Зеленский нелегитимен — как, следовательно, и назначенная им делегация. Значит, сначала будет перемирие на плюс-минус этих условиях — а уж потом, после срочных выборов на Украине, подписание мира.
Гарантия против «кидка»? Отмена военного положения на Украине, снятие запретов на выезд из страны и прекращение мобилизации. Появление большого числа экс-политзаключённых на свободе, крайне негативно настроенных к Зеленскому (и предвыборная кампания), не позволит «по-тихому» продолжить мобилизацию или что-то подобное.
Ну, и часть военных ограничений может начать действовать сразу, а не после заключения официального мира (как, к примеру, по Компьенскому перемирию 1918 г. Германия выдавала Антанте военную технику сразу — а мир был заключён только в следующем году). В любом случае, на практике подобная ситуация приведёт к дезертирству значительной части ВСУ, то есть возобновление боевых действий скоро станет для Украины объективно невозможным.
Что дальше? А дальше, при удовлетворении наших территориальных запросов, Россия ставит «страховочную» ударную группировку на правобережье Днепра — и, при попытках Украины позже (через год или два, скажем) пересмотреть результаты мира, та будет сразу задействована (а вернуть ВСУ к прежней численности мгновенно не получится в любом случае).
Насколько это реалистично? Ну, что переговоры окажутся успешными, причём сразу?
Ну, я бы сказал, что вероятность — процентов 15-20. Остальные 80-85% — что до нашего масштабного наступления они там сговорчивее не станут. И в этом случае условия мира, вероятно, окажутся уже другими. В самом крайнем случае Украина может вовсе не сохраниться, но это весьма маловероятно (хотя радикальная децентрализация более реалистична).
Ну, а наша задача — чтобы наступление в варианте провала переговоров стало бы последним и необратимым.
Ну вот где-то так.