Русская дерзость

«Для тех, кто с нами»



«На гражданке скучно, ты еще вернешься», — сказал мой старшина, напутствуя уезжающего домой по окончанию контракта сослуживца. Сам старшина сразу же продлился, когда его контракт истек. На этом сочетании свободы уехать или остаться в «Барсах» годами служит немало людей (у кого-то за плечами уже шесть полугодовых контрактов). Что де-факто означает отказ от построения военной карьеры в сочетании со стремлением свободно воевать.
Другой мой сослуживец, ветеран второй чеченской, рассказывает о своем друге, который лихо воюет на сумском направлении и в целом на войне с 2014 года, без войны он уже не может, так как «на гражданке скучно».
«Что-то тянет сюда», — говорит отец 6 детей, потерявший глаз во время первого захода на СВО и проходивший со мной учебку при повторном своем заходе.
Наиболее емко всё это сформулировал мой друг из Донецка, также воюющий с 2014 года, прошедший Сирию в составе известной ЧВК и с первых дней участвующий в СВО. «Всё может надоесть: семья, гулянки, секс, но не война», — поделился жизненным опытом Ланжик во время тренировки на полигоне. После победы над Украиной Ланжик хочет в Африку.
В древнегреческой философии и в индуизме удивительным образом совпало деление людей на касты (на типы). Платон выделял крестьян (здесь же ремесленники и торговцы), стражников (воинов) и философов. В индуизме выделены шудры (низшее сословие, слуги), вайшьи (ремесленники, торговцы), кшатрии (воины) и брахманы (философы). Суть воина по Платону и кшатрия в индуизме в войне. Не в войне за что-то, а в войне как таковой. Воин живет войной. При этом, безусловно, он воюет за что-то (за что именно — сфера ответственности брахманов), но конституируется воин именно воинским началом, войной как таковой, а смысл он утверждает через свою готовность жертвовать собой на войне.
Брахманическое начало может быть рассмотрено как некая направляющая, утверждаемая, в том числе, стремлением кшатрия воевать. Конечно, не все, кто на войне или прошел через войну, — кшатрии. Я бы даже рискнул предположить, что проявившиеся кшатрии в меньшинстве и на фронте. Но они есть. До нашей победы еще далеко, тем не менее, я бы хотел поставить вопрос о возвращении кшатрия с фронта. Что он будет делать, когда война закончится? Африка и прочий Ближний Восток всех не займут.
Конфликт возвращения фронтовиков в мирную жизнь был отражен в легендарном произведении «Место встречи изменить нельзя», где по разные [уже гражданские] линии фронта встретились два сослуживца. Шарапов и Левченко вместе били немцев, но теперь Шарапов — сотрудник МУРа, а Левченко — уголовник. Две ипостаси жизни волка в мирное время.
«Охота на волков». Высоцкий
Боюсь, не все кшатрии найдут себя в системе правоохранительных органов. Лично мне хотелось бы, чтобы нашли все. Но это другая система, не та, в которой они сформировались, и жизнь у людей складывается по-разному, что и показали нам в советском «Место встречи изменить нельзя».
Мы живем в буржуазном обществе и, соответственно, базовой программой адаптации кшатриев к мирной жизни является превращение в благополучную мелкую буржуазию (от льготных кредитов на малый бизнес для участников СВО до интеграции ветеранов в муниципальные органы власти). Поскольку слово «буржуазия» носит ругательный оттенок в нашем дискурсе, может показаться, что я что-то осуждаю и разоблачаю. Но это не так. Я поддержку участников СВО приветствую. И хочу обратить внимание на следующее. Кшатрий в своем чистом воплощении не может согласиться на ролевые модели мелкой буржуазии. Это не его путь. Но так как чистых воплощений идеи в материальном мире нет и быть не может (по Платону), то многие участники СВО согласятся, что лично я буду только приветствовать (чем больше участников СВО во власти и в бизнесе, тем лучше для страны). Только согласятся не все. И этим не всем будет предложена Африка или правоохранительные структуры, которые опять же не всех поглотят.
Какая-то часть кшатриев, которую сейчас занимает фронт, обязательно окажется «мимо» всех текущих форм социализации в мирной жизни. Попытки найти «технологическое» решение, на мой взгляд, обречены на провал. Чтобы избежать негативных сценариев нам нужно другое общество. Не социум должен менять кшатриев под себя (что невозможно), а сам социум должен меняться под кшатриев. Это единственный честный сценарий, в противном случае люди, справедливо названные «лучшими из нас», окажутся, скажем мягко, вне игры.
Нам нужна русская экспансия. Символом и проводником которой станут и уже являются кшатрии. Тогда кшатрийская и брахманическая линии соединятся. И мы получим русскую ирреденту в самом широком и полном смысле.



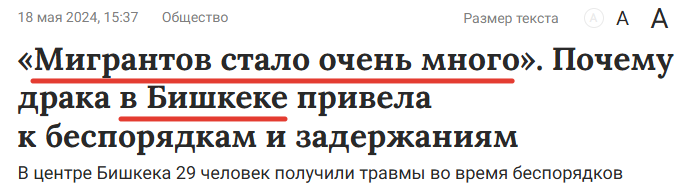









Общество узнает свою историю, то есть узнает себя при посредничестве историка. Но как историк познает историю? Бенедикт Андерсон в работе «Воображаемые сообщества» [1] рассматривает принципиальную новизну истории нового времени (эпохи модерна) и ее влияние на формирование идентичности человека. Я предлагаю подойти к вопросу истории с предъявленной Андерсоном философской позиции, не претендуя на раскрытие работы историка как ремесла.
Цитата: «Любая попытка придать национальности историческую глубину с помощью языковых средств упиралась в непреодолимые затруднения. Практически все креолы [потомки европейских колонизаторов, родившиеся в Северной и Южной Америке, прим. АМ] институционально привязывались (через школы, печатные издания, административные привычки и т. д.) к европейским языкам, а не к аборигенным языкам Америки. Любое преувеличенное внимание к языковым родословным угрожало ударить прежде всего по той „памяти о независимости“, которую важнее всего было сохранить».
Креолы, создававшие независимые от метрополии государства в бывших колониях, нуждались в своем, обособленном от бывшей метрополии историческом сознании — в «памяти о независимости, которую важнее всего было сохранить».
Цитата: «Решение, в конце концов ставшее пригодным как для Нового, так и для Старого Света, было найдено в Истории — или, скорее, Истории, особым образом прописанной. Мы уже заметили, с какой скоростью вслед за объявлением Первого Года [введение Французского республиканского календаря, начавшего отсчет новой эпохи как символа разрыва буржуазной революции с прошлым, позднее был отменен Наполеоном, прим. АМ] последовало учреждение кафедр истории. Как отмечает Хейден Уайт, не менее поразительно, что все пять ведущих гениев европейской историографии родились в четверть столетия, последовавшую за разрывом времени Национальным Конвентом: Ранке — в 1795, Мишле — в 1798, Токвиль — в 1805, а Маркс и Буркхардт — в 1818. И, наверное, естественно, что из этих пяти именно Мишле, назначивший сам себя историком Революции, дает нам самый яркий пример рождения национального воображения, ибо он первый стал сознательно писать от лица умерших».
Далее Андерсон приводит цитату из работы французского историка Жюля Мишле «История XIX века. Т. 2. До 18 Брюмера». К сожалению, единственный перевод данного труда датируется XIX веком (на дореволюционный русский язык). Что делает его детальный разбор с цитатами затруднительным. Тем не менее я рекомендую ознакомиться с исходным текстом, а в данном выпуске буду опираться только на цитаты, приведенные в работе Андерсона.
Цитата: «Вот характерная выдержка из его труда: „Да, каждый умерший оставляет небольшое наследство — память свою, и требует, чтобы хранили ее. Для того, у кого нет друзей, магистратура должна занять место их. Закон, правосудие вернее, нежели привязанности наши так забывчивые, наши слезы так быстро высыхающие. Магистратура эта — История. Мертвые, говоря языком римского права, — это miserabiles personae [несчастные люди], о которых судья должен заботиться. Никогда, в продолжение всей моей профессии, я не терял из вида эту обязанность историка. Я подал многим забытым умершим помощь, в которой я сам буду нуждаться. Я отрыл их из их могил для новой жизни… Все они живут теперь с нами, и мы чувствуем, что мы им родные, друзья. Так создается одна семья, один град общий для мертвых и живых"».
Индивид беспомощен перед вызовом смерти. Рано или поздно память о нем, а также о тех, кто должен был его помнить, канет в Лету. Индивид неизбежно будет «стерт из истории». Как пелось в советской песне:
И сколько б ни вело следов к твоей могиле —
Дождь смоет все следы. Дождь смоет все следы.
Продлить индивида в истории может магистрат (государство), который есть история, пишет Мишле. Но как продлить? Здесь Мишле емко описывает процедуру, осуществляемую любым историком.
Цитирую еще раз: «Я отрыл их из их могил для новой жизни… Все они живут теперь с нами, и мы чувствуем, что мы им родные, друзья».
Историк осуществляет два неразрывных шага. Он «вырывает мертвых из могил», т. е. возвращает/актуализирует память о них. Необязательно поименно. Это может как быть память о «герое», так и о человеческой массе (например, об этносе или народе в его исторической динамике). И далее вписывает этих поднятых из могил мертвых в современный социум. Мертвые действительно живут рядом с нами и влияют на наш жизненный путь. Например, Сталин и советский человек в целом явно с нами. Мы мыслим себя в неразрывной связи с ними, даже не просто принимаем решения, а именно мыслим так, как будто они безусловная и важнейшая часть нашего бытия, нашего мира.
Метафора «выкапывания из могил» кажется эпатажной, но она своего рода общее место. Например, российский историк Борис Кипнис, выступая на фестивале «Цифровая история», следующим образом описал интерпретацию исторической фигуры Петра I в сталинскую эпоху. Кипнис: «Петр Великий перешагнул через рубеж могилы, снова встал в ряды защитников своего Отечества» [2].
Все мертвые, включенные в историческую идентичность человека, есть для человека. Они «вырыты из могил» и включены в его бытие в качестве, может быть, даже более близких людей, чем живые родные и друзья. Без этого нет социума и, соответственно, государства. «Магистратура эта — История», государство и общество строятся на базе той или иной исторической идентичности.
Цитата: «Здесь и в других местах Мишле ясно дал понять, что те, кого он выводит из могил, — это никоим образом не случайное собрание забытых, безымянных умерших. Это те, чьи жертвы, принесенные на протяжении Истории, сделали возможным разрыв 1789 г. и осознанное появление французской нации, пусть даже сами эти жертвы и не воспринимались как таковые теми, кто их принес. В 1842 г. он написал об этих умерших: „Il leur faut un Oedipe qui leur explique leur propre énigme dont ils n’ont pas eu le sens, qui leur apprenne ce que voulaient dire leurs paroles, leurs actes, qu’ils n’ont pas compris“ [„Им нужен Эдип, который бы разъяснил им их действительную тайну, смысла которой они сами не разумели, который бы поведал им, что подразумевали на самом деле их речи и их поступки, коих они сами не понимали“]».
Мишле выступает в качестве демиурга, который лучше мертвых и за мертвых знает, зачем они жили и за что умирали. В этой как бы крайне высокомерной фразе емко раскрывается суть истории как мира, создаваемого историком. Историк действительно разъясняет мертвым тайну их бытия, придавая интерпретацию историческим событиям и процессам. Факт не существует без интерпретации, которая наполняет его смыслом. Факт без интерпретации — это пустая оболочка, представить которую затруднительно. Любое, самое сухое сообщение сопряжено с определенным смысловым контекстом (интерпретационной решеткой), в рамках которого мы воспринимаем сообщение.
Историк интерпретирует историю и тем самым создает ее в своем воображении и в вооружении внимающего ему социума. Демиургическая роль историка обусловлена не тем, что он «лучше знает» (знает, что уже произошло, детально знаком с фактурой, недоступной в полном объеме участникам событий и т. п.). Дело не в этом.
Историк выкапывает мертвых с одной целью — так или иначе вписать их в актуальный социум. В этом вписывании и заключается тайна его могущества. Историк воображает историю от лица своего социума и, в конечном итоге, выражая свой социум. Не только из конъюнктурных соображений, а прежде всего в силу задачи вписать мертвых в актуальный контекст, придав им актуальную интерпретацию.
Яркий пример — сталинское историческое кино. Великие фильмы сталинской эпохи «Александр Невский», «Иван Грозный», «Петр Первый» выражают сталинскую эпоху, в отношении же заявленных тем это просто фэнтези.
В качестве заметки на полях отмечу, что эпоха кинематографа и конкретно сталинское кино оказали и оказывают крайне существенное влияние на формирование исторической идентичности. Например, на мой взгляд, фильм «Александр Невский» повлиял на наше актуальное восприятие исторической фигуры Александра Невского сильнее, чем всё остальное вместе взятое. Он в каком-то смысле даже подменил собой историческую фигуру Александра Невского или, точнее, иные ее интерпретации.
Имеющее самое отдаленное к истории как науке фэнтези способно оказывать огромное влияние на историческую идентичность масс. Сталинское кино — это скорее позитивный пример. Но есть и негативные: от фоменковщины до «ящеров и деревянных небоскребов». Представьте на секунду, что человек поверил в ящеров всерьез. Он буквально живет с этими ящерами, мыслит вместе с этими ящерами. Это не шутки. Вернемся к Мишле и Андерсону.
Цитата: «Эта формулировка, вероятно, беспрецедентна. Мишле не только покусился на право говорить от имени колоссального числа анонимных умерших, но и авторитетно заявил, что может сказать, о чем они „на самом деле“ думали и чего они „на самом деле“ хотели, поскольку сами они этого „не понимали“. Отныне молчание умерших перестало быть помехой для эксгумации их глубочайших желаний».
Историк судит, о чем «на самом деле» думали мертвые, исходя из собственного мировоззрения. Конечно, существует принцип историзма (необходимость судить об истории исходя из норм соответствующей эпохи), но он не снимает данный вопрос. Историк может погружаться в эпоху, чтобы лучше ее понять. Но такое погружение всегда неполно. Это всё равно погружение «туриста» из будущего, стремящегося в конечном итоге вписать исследуемую эпоху в интерпретационную решетку своего социума.
Историк может охотно допускать, что раньше люди мыслили иначе, но при этом убежден в том, что «правильно» мыслит человек его эпохи, и потому настоящую трактовку истории способен дать только он. Например, историк-марксист трактует всю историю через призму классовой войны и развития материального базиса. Были ли такие представления у людей прошлых эпох? Нет, не было. То есть историк-марксист раскрывает тайную мотивацию мертвых, которую они сами не понимали. То же самое можно сказать и про иные взгляды на историю. Историк искренне убежден в том, что он и только он способен «разъяснить мертвым их действительную тайну, смысла которой они сами не разумели, поведать им, что подразумевали на самом деле их речи и их поступки, коих они сами не понимали». Возможны (и обычно имеют место) войны различных интерпретационных подходов к истории, являющихся выражением общественных противоречий своего времени.
История — это интерпретация, которая строится в редком случае на базе осознанной философской позиции и в частом случае на базе довольно хаотичного слепка актуального общественного мировоззрения.
Чем ответственнее в работе историка используется принцип историзма, чем развитее источниковедение и другие дисциплины ремесла историка, тем в конечном итоге глубже утверждается актуальное бытие социума, от лица которого мыслит историк, и тем плотнее в данный социум вписываются поднятые из могил мертвые (предшествующие эпохи).
Цитата: «В русле этого умонастроения все больше и больше националистов „второго поколения“ в обеих Америках, да и повсюду, учились говорить „от лица“ умерших, установление языковой связи с которыми было невозможным или нежелательным. Это „чревовещание наоборот“ помогло расчистить дорогу сознательному indigenismo [интеграции коренного населения в политические нации, создаваемые креолами, прим. АМ], особенно в Южной Америке. Пограничный случай: мексиканцы, говорящие по-испански „от лица“ доколумбовых „индейских“ цивилизаций, языков которых они не понимают. Насколько революционна была такая эксгумация, становится предельно ясно при сопоставлении ее с формулировкой Фермина де Варгаса, приведенной в главе 2. Ибо там, где Фермин все еще бодро рассуждал об „истреблении“ живых индейцев, многие из его политических внуков стали одержимы „воспоминаниями“ о них и даже „говорением от их лица“ — возможно, именно по тому, что к тому времени те зачастую были уже истреблены».
Модернистская история как наука институализировала и временно отчасти подмяла под себя формирование исторической идентичности. И можно было бы сказать, что наступила новая эпоха разума, который действительно всё истолкует и объяснит — раскроет тайну истории от лица мертвых и для самих мертвых. Но если мы рассмотрим, как строится историческая идентичность человека в рамках национального государства, то у нас могут возникнуть вопросы.
Национальные государства в бывших колониях возникали в произвольно проведенных по карте «прямых» границах. Они не были исторически обусловлены ничем, кроме линейки, которую европейский колонизатор приложил к карте. Тем не менее, данные границы становились священными. В их пределах формировались нации, за них проливали кровь поколения. Произвольно проведенные границы стали священным артефактом истории и породили генерации историков, которые «вообразили» историю национальных государств в этих границах.
Воображаемые сообщества. Андерсон
Отсюда феномен вписывания в национальную историю тех же индейцев, которых колонизаторы (чьи потомки создадут государство) ранее истребили. Отсюда же «тысячелетняя история» постсоветских республик.
Такое положение дел «разоблачает» историческую науку как производную от социума. Сам же модернистский социум представляется в качестве искусственного конструкта. Произвольно выдумано может быть всё: язык, граница, название. Но всё равно данный конструкт получит сакральную трактовку, свою священную историю и так далее. Яркий пример — современный Вьетнам, существующий в границах, проведенных колонизаторами, с выдуманным колонизаторами письменным языком и с выдуманным китайцами названием. Что не помешало Вьетнаму победить США в горячей войне и стать одним из ведущих национальных государств Азии.
В модернистском мире слишком проступает «игровой» элемент конструирования бытия. Что ставит под вопрос весь просвещенческий пафос исторической науки, которая всегда просвещает от лица своего социума. То есть конструирует и поддерживает коллективную идентичность своего социума.
Сообщество, воображая себя, порождает историка, который воображает его историю.
[1] Бенедикт Андерсон, Воображаемые сообщества: размышления над истоками и распространении национализма, Кучково поле, 2024 год, Москва.
[2] Кипнис Б. Г., «Царь и большевики: историческая политика СССР / Борис Кипнис и Егор Яковлев», Рутуб, 2025 год, https://rutube.ru/video/a23970c6fd2af5097e50487036893816/?r=wd&t=2290



Первый памятник Пушкину был установлен в Москве в 1880 году. В честь этого события Общество любителей российской словесности проводило Пушкинский праздник, на котором предполагалось столкновение западников, ориентировавшихся на Тургенева, и славянофилов, ориентировавшихся на Достоевского. Но мероприятие, проходившее в московском Благородном собрании (ныне небезызвестный Колонный зал), «пошло не по плану».
«Пушкинская речь» стала триумфом Достоевского, который в ней не победил западников, а, говоря языком гегельянства, снял конфликт между западниками и славянофилами (то есть снял западников и славянофилов как явление), получив восторженное признание обеих сторон.
Я предлагаю прочитать «Пушкинскую речь» и последующие комментарии к ней, данные Достоевским в дневнике писателя, как философский текст об идее России.
Цитата: «"Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа», — сказал Гоголь. Прибавлю от себя: и пророческое. Да, в появлении его заключается для всех нас, русских, нечто бесспорно пророческое. Пушкин как раз приходит в самом начале правильного самосознания нашего, едва лишь начавшегося и зародившегося в обществе нашем после целого столетия с петровской реформы, и появление его сильно способствует освещению темной дороги нашей новым направляющим светом. В этом-то смысле Пушкин есть пророчество и указание».
Достоевский начинает речь с цитаты Гоголя, подчеркивая в ней, что русский дух манифестировался через Пушкина и тем самым осветил «темную дорогу», которой Россия идет со времен петровской реформы. Петр I ввел Россию в эпоху абсолютизма и просвещения, которая является истоком модернизации. Абсолютизм изживал феодальную раздробленность (феодальный уклад жизни), централизуя власть в лице монарха (и через его госаппарата, то есть государства) и проводя четкие границы конкретного общества. Параллельно абсолютизм изгонял из своих границ влияние церкви. Но влияние церкви как земного института — это политическое измерение. Есть и иное, чтобы «освободиться от власти церкви», нужно было освободиться от религии как регулятора жизни общества. Что постепенно и было сделано.
Само понятие суверенитета государства было сформулировано французским философом Жаном Боденом в XVI веке, что применительно к Франции означало освобождение от власти императора (Священной Римской империи) и Папы Римского, и в результате сосредоточение всей власти над очерченной границами территории в руках монарха и централизованного государства как такового. Трудно не увидеть в этом пролога к национальному государству.
Петр I реализовал программу абсолютистского суверенитета применительно к церкви совсем радикальным способом — отмена патриаршества и фактическое превращение церкви в один из госорганов, полностью подчиненный монарху. Конечно, реформы Петра не с неба упали, их во многом приуготавливал Алексей Михайлович, они вызревали. Но это отдельный вопрос.
Как бы то ни было, Петр I открыл новую эпоху в истории России, столетий путь которой Достоевский назвал «темной дорогой».
Цитата: «В типе Алеко, герое поэмы „Цыгане“, сказывается уже сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выраженная потом в такой гармонической полноте в „Онегине“, где почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необходимо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип постоянный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселившийся».
Достоевский сразу не уточняет, когда произошел отрыв общества от народа. Ясно, что такое отдельное от народа общество — так в XIX веке называли условно образованный слой (так называемая думающая часть населения), противопоставляемый крестьянской массе. Но когда это общество оторвалось от народа? Напрашивается ответ, что как раз в ходе и по итогам петровских реформ, когда произошла европеизация (начальная модернизация) верхов при сохранении традиционного общества низов. Отрыв от народа — это в первом приближении отрыв от традиционного общества.
Цитата: «Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского — интеллигентного общества, то всё равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие чтоб успокоиться: дешевле он не примирится, — конечно, пока дело только в теории. Это всё тот же русский человек, только в разное время явившийся».
В европеизированной жизни просвещенного общества Российской империи не проявляется нечто, без чего русский человек жить не может. Потому он становится скитальцем и ищет это нечто, что не может описать словами. Поиск этот ведется в диапазоне от цыганского табора до социализма, и ищет наш человек нечто, что носит подчеркнуто русский и подчеркнуто всемирный характер одновременно. Ищет, и не может найти.
Цитата: «Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале второго столетия после великой петровской реформы, в нашем интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских, и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных дорогах и в банках, или просто наживают разными средствами деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции — и всё это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответствующие нашему времени. Много-много что полиберальничают „с оттенком европейского социализма“, но которому придан некоторый благодушный русский характер, — но ведь всё это вопрос только времени. Что́ в том, что один еще и не начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу смиренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: довольно лишь „избранных“, довольно лишь десятой доли забеспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству не видать чрез них покоя».
Историю определяет не обыватель, адаптирующийся к обстоятельствам, а герой, который, всегда находясь в меньшинстве, лишает огромное большинство покоя.
Цитата: «Алеко, конечно, еще не умеет правильно высказать тоски своей: у него всё это как-то еще отвлеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть немножко Жан-Жака Руссо [Руссо выдвинул гипотезу о „естественном человеке“, как о неком человеческом начале, не испорченном цивилизацией, отсюда поиск „правды“ с обращением к природе и наиболее архаичным формам традиционного общества, например, к цыганам, прим. АМ]. В чем эта правда, где и в чем она могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преимущественно от явлений внешних; да так и быть должно: „Правда, дескать, где-то вне его, может быть, где-то в других землях, европейских, например, с их твердым историческим строем, с их установившеюся общественною и гражданскою жизнью“. И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов [„Табель о рангах“, введенный Петром I, прим. АМ], на которые разделено образованное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чувствует и этим страдает, и часто так мучительно!».
Здесь Достоевский уже прямо говорит, что разрыв между «образованным русским обществом» и народом / родной землей произошел в результате петровских реформ. Травма модернизации (в широком смысле) отлучила русское образованное (т. е. вступившее в эпоху просвещения) общество от русской земли.
Понятия народа и родной земли в «Пушкинской речи» перекликаются как единое целое. При этом ясно, что Достоевский говорит о народе не как об эксплуатируемой массе и не как о сумме индивидов. Народ сливается в одно целое с родной землей как выражение русского начала — идеи России.
Правда, которую ищет русский человек, находится в нем самом, пишет Достоевский. Это не либерализм, при котором правда у каждого своя, не тренинг по раскрытию индивида, а обращение к общей для всех и проявленной в каждом идее России. Еще точнее, к идее России, которая создала русского человека как явление и русскую землю (определенную интерпретацию и восприятие нашей природы) как явление.
Цитата: «Тут уже подсказывается русское решение вопроса, „проклятого вопроса“, по народной вере и правде: „Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и прежде всего потрудись на родной ниве“, вот это решение по народной правде и народному разуму. „Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой — и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя — и станешь свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь великое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармония, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за нее надобно заплатить“. Это решение вопроса в поэме Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено оно в „Евгении Онегине“, поэме уже не фантастической, но осязательно реальной, в которой воплощена настоящая русская жизнь с такою творческою силой и с такою законченностию, какой и не бывало до Пушкина, да и после его, пожалуй».
Смирение гордости светского индивида и труд на родной ниве (земле) адресуют к единению с существовавшим тогда традиционным обществом, к его принятию. Это можно прочитать грубо, как стремление вернуться в архаику. Но можно и как поиск русской идеи, русского логоса, который проявлялся в традиции, но не был проявлен как нечто, что можно выразить словами. К этому выражению подступаются Пушкин и Достоевский.
Далее Достоевский переходит к роману «Евгений Онегин».
Цитата: «Ленского он [Онегин] убил просто от хандры, почем знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, — это слишком по-нашему, это вероятно. Не такова Татьяна: это тип твердый, стоящий твердо на своей почве. Она глубже Онегина и, конечно, умнее его. Она уже одним благородным инстинктом своим предчувствует, где и в чем правда, что и выразилось в финале поэмы. Может быть, Пушкин даже лучше бы сделал, если бы назвал свою поэму именем Татьяны, а не Онегина, ибо бесспорно она главная героиня поэмы. Это положительный тип, а не отрицательный, это тип положительной красоты, это апофеоза русской женщины».
Достоевский пишет о Татьяне Лариной как об «апофеозе русской женщины». Это и последующее описание сближает Татьяну с Незнакомкой Блока. Если Незнакомка — это прямая манифестация России в образе женщины, то Татьяна, по Достоевскому, — проявление русского духа. Что в определенном смысле почти одно и то же.
Цитата: «Манера глядеть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скромном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной девочке законченности и совершенства <…> Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татьяне, „постигал душой все ее совершенства“. Но это только слова: она прошла в его жизни мимо него не узнанная и не оцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал бы ему на нее, — о, Онегин тотчас же был бы поражен и удивлен, ибо в этих мировых страдальцах так много подчас лакейства духовного! Но этого не случилось, и искатель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив все-таки очень честно, отправился с мировою тоской своею и с пролитою в глупенькой злости кровью на руках своих скитаться по родине, не примечая ее».
Представитель «образованного общества» Онегин не в состоянии увидеть и распознать Татьяну. Онегин оторван от народа и родной земли и потому не способен распознать русский дух, который манифестируется через Татьяну. Он увлекается ей как героиней светского общества, но теряет из виду как невинную девушку в глуши, в качестве которой она проявляется по-настоящему.
Герой из общества определен своим полумодернистским микросоциумом и поклоняется Западу в широком смысле, не как убежденный либерал, а как обыватель, считающий рекорды в НХЛ, но не в КХЛ. От России же как идеи он безнадежно оторван. Его поиск безнадежен, поскольку он ищет не там и уже как будто не то.
Цитата: «Это поняла Татьяна. В бессмертных строфах романа поэт изобразил ее посетившею дом этого столь чудного и загадочного еще для нее человека. Я уже не говорю о художественности, недосягаемой красоте и глубине этих строф. Вот она в его кабинете, она разглядывает его книги, вещи, предметы, старается угадать по ним душу его, разгадать свою загадку, и „нравственный эмбрион“ останавливается наконец в раздумье, со странною улыбкой, с предчувствием разрешения загадки, и губы ее тихо шепчут:
Уж не пародия ли он?
Да, она должна была прошептать это, она разгадала. <…> Ведь она твердо знает, что он в сущности любит только свою новую фантазию, а не ее, смиренную, как и прежде, Татьяну! Она знает, что он принимает ее за что-то другое, а не за то, что она есть, что не ее даже он и любит, что, может быть, он и никого не любит, да и не способен даже кого-нибудь любить, несмотря на то, что так мучительно страдает! Любит фантазию, да ведь он и сам фантазия».
Гениальная формулировка «любит фантазию, да ведь он и сам фантазия». Я, конечно, невольно упрощаю мысль великого классика и слишком рискую упустить главное. Но, на мой взгляд, если Онегин — пародия, то и породившее его общество — пародия и фантазия. Пародия на Европу и фантазия о европейской жизни в России. Безнадежно оторванные от русской почвы.
Цитата: «Пушкин явился великим народным писателем, как до него никогда и никто. Он разом, самым метким, самым прозорливым образом отметил самую глубь нашей сути, нашего верхнего над народом стоящего общества. Отметив тип русского скитальца, скитальца до наших дней и в наши дни, первый угадав его гениальным чутьем своим, с историческою судьбой его и с огромным значением его и в нашей грядущей судьбе, рядом с ним поставив тип положительной и бесспорной красоты в лице русской женщины, Пушкин, и, конечно, тоже первый из писателей русских, провел пред нами в других произведениях этого периода своей деятельности целый ряд положительно прекрасных русских типов, найдя их в народе русском. Главная красота этих типов в их правде, правде бесспорной и осязательной, так что отрицать их уже нельзя, они стоят, как изваянные. <…> О типе русского инока-летописца, например, можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и всё значение для нас этого величавого русского образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощного духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. Вы созерцаете сами и соглашаетесь: да это есть, стало быть, и дух народа, его создавший, есть стало быть, и жизненная сила этого духа есть, и она велика и необъятна».
Выведенные Пушкиным русские типы бесспорно есть, так как они выражают «дух народной жизни». Если конкретный человек был прообразом того или иного героя у Пушкина, это ничего не меняет, поскольку через него был выведен идеальный образ, а не земной индивид.
Дух народа для меня со всей очевидностью означает идею Россию. Дух, живущий через народ и тем самым создающий народ, — это идея в платоновском смысле, «жизненная сила [ее] велика и необъятна».
Цитата: «Наш поэт представляет собою нечто почти даже чудесное, неслыханное и невиданное до него нигде и ни у кого. В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении — Шекспиры, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такою способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин. И эту-то способность, главнейшую способность нашей национальности, он именно разделяет с народом нашим, и тем, главнейше, он и народный поэт. Самые величайшие из европейских поэтов никогда не могли воплотить в себе с такой силой гений чужого, соседнего, может быть, с ними народа, дух его, всю затаенную глубину этого духа и всю тоску его призвания, как мог это проявлять Пушкин. Напротив, обращаясь к чужим народностям, европейские поэты чаше всего перевоплощали их в свою же национальность и понимали по-своему. Даже у Шекспира его итальянцы, например, почти сплошь те же англичане. Пушкин лишь один изо всех мировых поэтов обладает свойством перевоплощаться вполне в чужую национальность».
Пушкин, как выразитель всемирной отзывчивости России, обладает способностью гениально включать себя в чужой культурный контекст, перевоплощаясь, и тем самым включать этот культурный контекст в себя. Но, становясь англичанином, Пушкин остается русским гением. Таково, по Достоевскому, выражение русской способности и русского стремления всё включить в себя, не потеряв чужой уникальности и в то же время сделав ее собой.
Цитата: «Ибо что такое сила духа русской народности как не стремление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Став вполне народным поэтом, Пушкин тотчас же, как только прикоснулся к силе народной, так уже и предчувствует великое грядущее назначение этой силы. Тут он угадчик, тут он пророк».
Всемирность и всечеловечность русского духа означает не его отказ от самого себя, а включение всего в себя. Радикальное мессианство, всему бытию дающее русскую всечеловеческую интерпретацию.
Цитата: «В самом деле, что такое для нас петровская реформа, и не в будущем только, а даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию? Что означала для нас эта реформа? Ведь не была же она только для нас усвоением европейских костюмов, обычаев, изобретений европейской науки. Вникнем, как дело было, поглядим пристальнее. Да, очень может быть, что Петр первоначально только в этом смысле и начал производить ее, то есть в смысле ближайше утилитарном, но впоследствии, в дальнейшем развитии им своей идеи, Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближащий утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближащий утилитаризм, — ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода».
Петровскую реформу можно было прочитать строго негативно, как отрыв верхушки социума от базовых кодов идентичности народа. Это был бы почвеннический взгляд. Но Достоевский снимает его, включая петровские реформы в русское стремление к единению всечеловеческому. В результате западничество становится проявлением русскости, оторвавшимся от русской почвы. И вопрос не в его отрицании, а в его соединении с русским духом.
Цитата: «Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, всё это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!».
Достоевский гениально формулирует код русской истории в высоком (т. е. настоящем) смысле. Комментировать его излишне. Иногда текст лучше просто перечитать еще раз.
Далее Достоевский описывает включение Европы в Россию.
Цитата: «И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным».
Полная реализация русскости есть спасение мира, есть построение рая на земле (мира «общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону»), дает понять Достоевский. Радикальное мессианство всемирного масштаба. Русские стремятся спасти мир, принять мир и через это в полной мере раскрыть себя — сделать мир русским.
В завершение Достоевский говорит, что дело не в деньгах и не в науке, не в реализации программы модерна вообще.
Цитата: «Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, всё это покажется самонадеянным: „Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?“ Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю „в рабском виде исходил благословляя“ Христос. Почему же нам не вместить последнего слова Его? Да и сам Он не в яслях ли родился?».
Реализация идеи России лежит за рамками модерна, это принципиальная мысль Достоевского.
Цитата: «Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем».
Пушкин указал на идею России. Наше дело — раскрыть ее.
В дневнике писателя Достоевский следующим образом прокомментировал свою «Пушкинскую речь».
Цитата: «Пушкин первый своим глубоко прозорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. Он отметил и выпукло поставил перед нами отрицательный тип наш, человека, беспокоящегося и не примиряющегося, в родную почву и в родные силы ее не верующего, Россию и себя самого (то есть свое же общество, свой же интеллигентный слой, возникший над родной почвой нашей) в конце концов отрицающего, делать с другими не желающего и искренно страдающего. Алеко и Онегин породили потом множество подобных себе в нашей художественной литературе. <…> честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему самую больную язву составившегося у нас после великой петровской реформы общества. Его искусному диагнозу мы обязаны обозначением и распознанием болезни нашей, и он же, он первый, дал и утешение: ибо он же дал и великую надежду, что болезнь эта не смертельна и что русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть, если присоединится к правде народной».
Достоевский вновь подчеркивает, что общество (образованный слой) оторвано от народа. Такое общество отрицает народ (Россию) и в конце концов самого себя. Это путь гибели по Достоевскому. Но есть надежда на спасение — воссоединение образованного слоя с идеей России. Каким бы ни был отрыв, оторвались именно русские люди, и спастись русские люди могут, только вернувшись в Россию как идею.
Цитата: «Он первый (именно первый, а до него никто) дал нам художественные типы красоты русской, вышедшей прямо из духа русского, обретавшейся в народной правде, в почве нашей, и им в ней отысканные. Свидетельствуют о том типы Татьяны, женщины совершенно русской, уберегшей себя от наносной лжи».
Вновь подчеркивается, что Пушкин явил образы русского духа, воплотившегося, в частности, в образе Татьяны, уберегшей себя от наносной лжи общества.
Цитата: «Главное же, что надо особенно подчеркнуть, — это то, что все эти типы положительной красоты человека русского и души его взяты всецело из народного духа. Тут уже надобно говорить всю правду: не в нынешней нашей цивилизации, не в „европейском“ так называемом образовании (которого у нас, к слову сказать, никогда и не было), не в уродливостях внешне усвоенных европейских идей и форм указал Пушкин эту красоту, а единственно в народном духе нашел ее, и только в нем. Таким образом, повторяю, обозначив болезнь, дал и великую надежду: „Уверуйте в дух народный и от него единого ждите спасения и будете спасены“. Вникнув в Пушкина, не сделать такого вывода невозможно».
Уродливо-внешнее усвоение европейских идей и форм описывает российское общество как пародию и фантазию. Пародию на Европу и фантазию о европейской жизни в России.
Цитата: «Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения — способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевоплощения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного. <…> Способность эта есть всецело способность русская, национальная, и Пушкин только делит ее со всем народом нашим, и, как совершеннейший художник, он есть и совершеннейший выразитель этой способности, по крайней мере в своей деятельности, в деятельности художника. Народ же наш именно заключает в душе своей эту склонность к всемирной отзывчивости и к всепримирению и уже проявил ее во всё двухсотлетие с петровской реформы не раз».
Достоевский вновь подчеркивает, что русский дух склонен «к всемирной отзывчивости и к всепримирению». И в этом ключе прочитывает только что почти проклятое русское западничество.
Цитата: «Обозначая эту способность народа нашего, я не мог не выставить в то же время, в факте этом, и великого утешения для нас в нашем будущем, великой и, может быть, величайшей надежды нашей, светящей нам впереди. Главное, я обозначил то, что стремление наше в Европу, даже со всеми увлечениями и крайностями его, было не только законно и разумно, в основании своем, но и народно, совпадало вполне с стремлениями самого духа народного, а в конце концов бесспорно имеет и высшую цель. В краткой, слишком краткой речи моей я, конечно, не мог развить мою мысль во всей полноте, но, по крайней мере, то, что высказано, кажется, ясно».
Достоевский подчеркивает, что приводить рациональные доказательства в пользу своей «фантазии» не намерен (философская истина самоочевидна) и еще раз говорит, что дело не в экономике.
Достоевский находит в западничестве 18-19 века воплощение русскости. Да, оторвавшееся от России и тем самым крайне проблемное, гибельное для самого себя, но воплощение.
Цитата: «Повторяю, я, конечно, не мог доказать „этой фантазии моей“, как я сам выразился, обстоятельно и со всею полнотою, но я не мог и не указать на нее. Утверждать же, что нищая и неурядная земля наша не может заключать в себе столь высокие стремления, пока не сделается экономически и гражданственно подобною Западу, — есть уже просто нелепость. Основные нравственные сокровища духа, в основной сущности своей по крайней мере, не зависят от экономической силы».
Достоевский дает понять, что славянофилы готовы принять русское западничество как проявления идей России. То есть включать западничество в общую русскость, где уже нет разделения на славянофилов и западников.
Цитата: «Объявлено было, наконец, что все недоумения между обеими партиями и все злые препирания между ними были доселе лишь одним великим недоразумением. Вот это-то и могло бы стать, пожалуй, „событием“, ибо представители славянофильства тут же, сейчас же после речи моей, вполне согласились со всеми ее выводами. Я же заявляю теперь — да и заявил это в самой речи моей, — что честь этого нового шага (если только искреннейшее желание примирения составляет честь), что заслуга этого нового, если хотите, слова вовсе не мне одному принадлежит, а всему славянофильству, всему духу и направлению „партии“ нашей, что это всегда было ясно для тех, которые беспристрастно вникали в славянофильство, что идея, которую я высказал, была уже не раз если не высказываема, то указываема ими. Я же сумел лишь вовремя уловить минуту».
В завершение Достоевский сильно, очень сильно сомневается в том, что русские западники воспримут его. Да, развернуто пишет Достоевский, они называют меня гением, а мою речь гениальной, но воспринимают ли они мои слова по-настоящему?
Привожу огромную цитату, в ней описана трагедия русского западничества.
Цитата: «Теперь вот заключение: если западники примут наш вывод и согласятся с ним, то и впрямь, конечно, уничтожатся все недоразумения между обеими партиями, так что „западникам и славянофилам не о чем будет и спорить, как выразился Иван Сергеевич Аксаков, так как всё отныне разъяснено“. С этой точки зрения, конечно, речь моя была бы „событием“. Но увы, слово „событие“ произнесено было лишь в искреннем увлечении с одной стороны, но примется ли другою стороною и не останется лишь в идеале, это уже совсем другой вопрос. Рядом с славянофилами, обнимавшими меня и жавшими мне руку, тут же на эстраде, едва лишь я сошел с кафедры, подошли ко мне пожать мою руку и западники, и не какие-нибудь из них, а передовые представители западничества, занимающие в нем первую роль, особенно теперь. Они жали мне руку с таким же горячим и искренним увлечением, как славянофилы, и называли мою речь гениальною, и несколько раз, напирая на слово это, произнесли, что она гениальна. Но боюсь, боюсь искренно: не в первых ли „попыхах“ увлечения произнесено было это! О, не того боюсь я, что они откажутся от мнения своего, что моя речь гениальна, я ведь и сам знаю, что она не гениальна, и нисколько не был обольщен похвалами, так что от всего сердца прощу им их разочарование в моей гениальности, — но вот что, однако же, может случиться, вот что могут сказать западники, чуть-чуть подумав (Nota bene, я не об тех пишу, которые жали мне руку, я лишь вообще о западниках теперь скажу, на это я напираю): „А, — скажут, может быть, западники (слышите: только „может быть“, не более), — а, вы согласились-таки наконец после долгих споров и препираний, что стремление наше в Европу было законно и нормально, вы признали, что на нашей стороне тоже была правда, и склонили ваши знамена, — что ж, мы принимаем ваше признание радушно и спешим заявить вам, что с вашей стороны это даже довольно недурно: обозначает, по крайней мере, в вас некоторый ум, в котором, впрочем, мы вам никогда не отказывали, за исключением разве самых тупейших из наших, за которых мы отвечать не хотим и не можем, — но… тут, видите ли, является опять некоторая новая запятая, и это надобно как можно скорее разъяснить. Дело в том, что ваше-то положение, ваш-то вывод о том, что мы в увлечениях наших совпадали будто бы с народным духом и таинственно направлялись им, ваше-то это положение — все-таки остается для нас более чем сомнительным, а потому и соглашение между нами опять-таки становится невозможным. Знайте, что мы направлялись Европой, наукой ее и реформой Петра, но уж отнюдь не духом народа нашего, ибо духа этого мы не встречали и не обоняли на нашем пути, напротив — оставили его назади и поскорее от него убежали. Мы с самого начала пошли самостоятельно, а вовсе не следуя какому-то будто бы влекущему инстинкту народа русского ко всемирной отзывчивости и к всеединению человечества, — ну, одним словом, ко всему тому, о чем вы теперь столько наговорили. В народе русском, так как уж пришло время высказаться вполне откровенно, мы по-прежнему видим лишь косную массу, у которой нам нечему учиться, тормозящую, напротив, развитие России к прогрессивному лучшему, и которую всю надо пересоздать и переделать, — если уж невозможно и нельзя органически, то, по крайней мере, механически, то есть попросту заставив ее раз навсегда нас слушаться, во веки веков. А чтобы достигнуть сего послушания, вот и необходимо усвоить себе гражданское устройство точь-в-точь как в европейских землях, о котором именно теперь пошла речь. Собственно же народ наш нищ и смерд, каким он был всегда, и не может иметь ни лица, ни идеи. <…>
А потому ту половину произнесенной речи, в которой вы высказываете нам похвалы, мы, пожалуй, согласимся принять с известными ограничениями, так и быть, сделаем вам эту любезность. Ну, а ту половину, которая относится к вам и ко всем этим вашим «началам» — уж извините, мы не можем принять…» Вот какой может быть грустный вывод. Повторяю: я не только не осмелюсь вложить этот вывод в уста тех западников, которые жали мне руку, но и в уста многих, очень многих, просвещеннейших из них, русских деятелей и вполне русских людей, несмотря на их теории, почтенных и уважаемых русских граждан. Но зато масса-то, масса-то оторвавшихся и отщепенцев, масса-то вашего западничества, середина-то, улица-то, по которой влачится идея, — все эти смерды-то «направления» (а их как песку морского), о, там непременно наскажут в этом роде и, может быть, даже уж и насказали. <…>
И наконец, если уж в самом деле так необходимо надо, для того чтоб иметь право любить человечество и носить в себе всеединящую душу, для того чтоб заключать в себе способность не ненавидеть чужие народы за то, что они не похожи на нас; для того чтоб иметь желание не укрепляться от всех в своей национальности, чтоб ей только одной всё досталось, а другие национальности считать только за лимон, который можно выжать (а народы такого духа ведь есть в Европе!), — если и в самом деле для достижения всего этого надо, повторяю я, предварительно стать народом богатым и перетащить к себе европейское гражданское устройство, то неужели все-таки мы и тут должны рабски скопировать это европейское устройство (которое завтра же в Европе рухнет)? Неужели и тут не дадут и не позволят русскому организму развиться национально, своей органической силой, а непременно обезличенно, лакейски подражая Европе? Да куда же девать тогда русский-то организм? Понимают ли эти господа, что такое организм?».
Оторванное от идеи России западничество не может не воевать против России, то есть в конечном итоге против не только государства и наличного населения, но и идеи.
Но, вновь и вновь повторяет Достоевский, само западничество есть не грех, а порождение русского духа. И разделение на славянофилов и западников не грех, а «великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое». Грех — отрыв от идеи России, который должен быть преодолен.
Мы можем перенести данное представление, включающее западничество в Россию, и далее. Советский проект в основе своей радикально западнический — взятие на вооружение западной идеологии (марксизма), полный интернационализм, отрицание своего традиционного общества и своей национальной буржуазии, курс на вхождение в Европу (ожидание пролетарских революций на Западе, в результате которых образуется единая общеевропейская диктатура пролетариата). Но в то же время советский проект явным образом воплощает русское стремление «к всемирной отзывчивости и к всепримирению».
Русский коммунизм был именно русским, о чем впоследствии писал Бердяев. И в то же время всемирным, стремление войти в Европу было сопряжено с предельным мессианством: весь мир привести к «общей гармонии, братскому окончательному согласию всех племен». Если бы советский человек состоялся в полной мере, то это стало бы раскрытием русского человека, который братски, без насилия включает в себя другого. В этом, а не только в чистом марксизме, код большевистской национальной политики.
Русское радикальное мессианство нашло свой выход в марксизме. В сущности, об этом пишет и Достоевский, указывающий на социализм как на новую, актуальную уже в конце XIX века веру русского скитальца.
Тотальный русский коммунизм
Если бы идея России раскрывалась (или в должной мере раскрылась) в СССР, то мы бы счастливо жили в советской России. Но далее наступил следующий этап, который честно было бы также прочитать в предложенной Достоевским логике.
Иное, уже буржуазное устремление войти в Европу также не может быть исключено из стремления обрести «всеевропейское единство», которое подразумевало некий единый общечеловеческий путь в целом. Это стремление войти в Европу на обратной своей стороне содержит стремление включить Европу в себя. Мы станем совсем европейцами, а Европа станет русской. Что в политическом измерении могло означать намерение советской/российской элиты взять Европу под контроль путем вхождения России в нее.
Достоевский раскрывает коды русской истории. И не дает готовой инструкции «как надо». Классическая философия и великая литература в принципе не дают готовых инструкций, они улавливают глубину бытия.
Я из «Пушкинской речи» Достоевского делаю один ясный вывод. Наше бытие, лично мое бытие может по-настоящему раскрываться только через идею России.