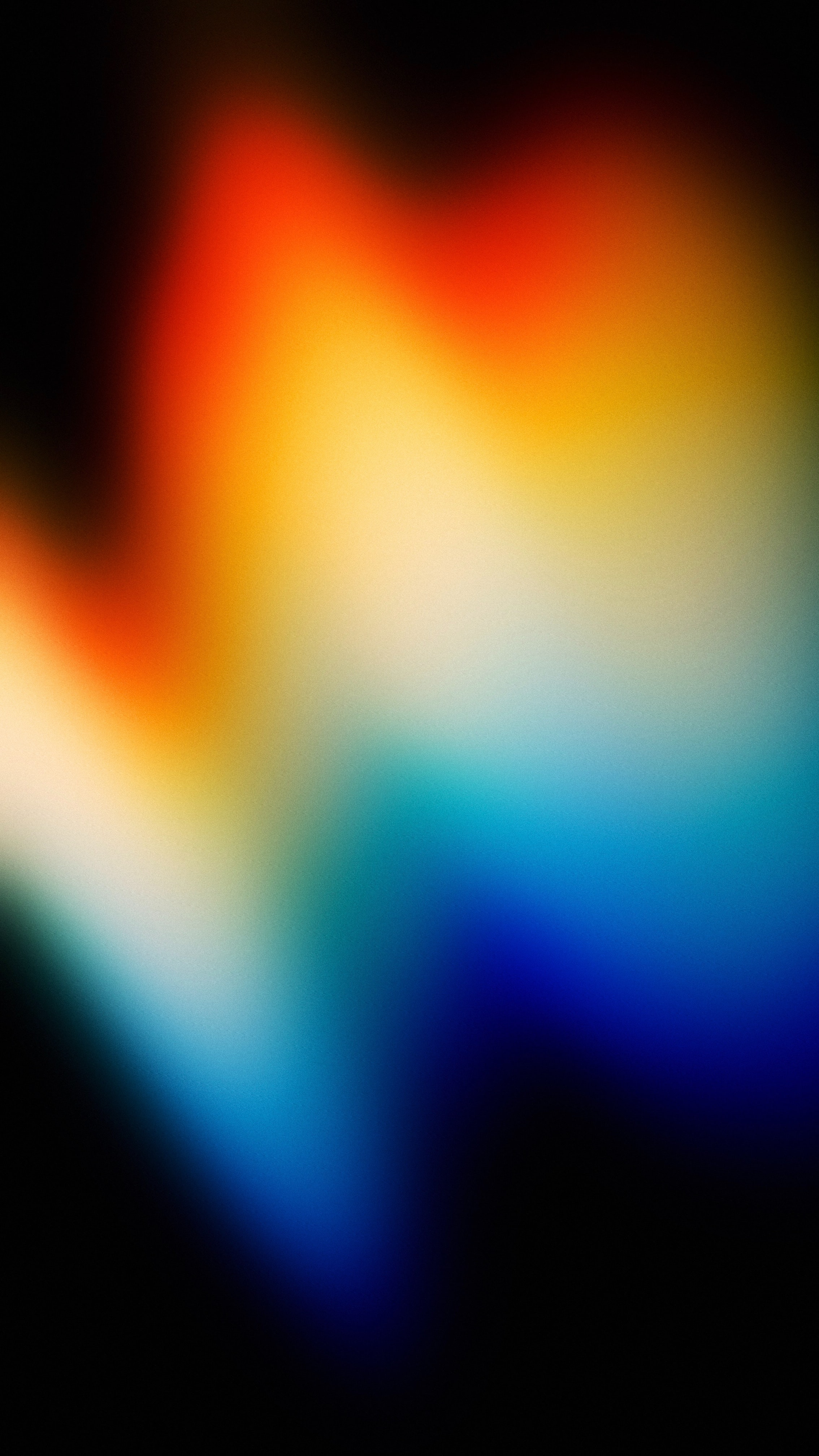1
Наиболее странное чувство я испытал, сидя за открытым столиком афинской придомовой таверны. Улица крутыми уступами сбегала с Акрополя; шум города, распластанного внизу, напоминал кашель моря. С Аттической равнины мягко подувал ветерок. И я знал со всею определённостью, что на следующий день в это же время уже буду следовать Трансальпийским экспрессом, и каждый вдох, каждый удар сердца будет неуловимо подвигать меня к цели. Я вспомнил — как между яркими впечатлениями дня вспоминается вдруг обрывок пришедшего ночью сна — перед отъездом прогулку в Замоскворечье, когда на спокойной улочке я разминулся с молодой женщиной, мягко ведущей коляску со спящим младенцем, и двое детей постарше задумчиво, чинно идут подле. На них матроски, чёрные брючки с блестящею пряжкой пояса, ласковые ленточки бескозырок. И мне показалось тогда, что войн и революций не происходило, что прошлое возвратимо. Кто была эта женщина? Мать? Бонна? Тётушка? Огромные порции подавали в греческих ресторанах. Попросил воды — и официант принёс бутыль полутора литров. Я утолил голод и просто сидел теперь; солнце восходило в зенит. Те из России, что были вместе со мной, уехали этой ночью, и когда я проснулся, то долго не мог притерпеться к особенной, звенящей тишине. Показалось, будто снаружи дождит и пасмурно, и когда поднял плотные жалюзи, на меня обрушилась бескрайняя синева чистейшего неба. От моря, лазорево-умиротворённого, отделяло не более сорока шагов. Я точно так же смотрел на него прежде вечером, и там, в тёплой темноте, видел мерцающие огни на островах вдалеке. Потом я заметил, что огни медленно перемещаются, и понял, что это корабли.
Отель был совершенно пуст. Я шлёпал по затенённым эспланадам, прохладным ещё коридорам, и не встречал ни одного человека. Ни в столовой, ни на рецепции, ни в курительный комнате. Уже время завтрака; ни питья, ни яств на раздаточном столе. Двадцать восемь из делегации, которой надлежало знакомиться с Домами России за рубежом, в четыре часа ночи были погружены в автобусы и увезены. Где-то в отдалении сквозняк лениво похлопывал створкой двери. Я вспомнил одно изречение из кодекса Бусидо, высокопарное, может быть: для самурая достаточно семи ударов сердца, чтобы принять решение. Я вспомнил об этом и четыре года назад, в 2004 году, когда шёл по другому коридору, и сквозняк так же теребил несчастную форточку где-то в голубоватой прохладе школы. Прямо с урока меня вытребовали к директору, и я возможно медленнее карабкался по пустой тихой лестнице, мучительно перебирая варианты, возможности. Я был примерным учеником; но что, если они проведали о… — ? Шекспир, нарисованный на лестничной клети, отечески взирал на меня: школа была английской. И директриса проговорила, что только что позвонили из Москвы, из Высшей школы экономики, и что, учитывая Смоленск, да, да, учитывая Смоленск: ведь ты там, значит самое, среди одиннадцатых классов… — И то предложение, которое я услыхал, было настолько невозможно и удивительно для мальчика из Череповца, что на секунду я даже заколебался. Но семи ударов сердце хватило вполне; выбор был сделан давно, уже очень давно; я коротко дал ответ и вышёл. И после тех же семи ударов я вернулся в номер, принял холодный душ (горячая вода появляется только тогда, когда солнце нагреет бак на крыше), забросил за спину рюкзак и оставил гостиницу. Было около десяти утра. Долго шёл по обочине национальной дороги «Афины-Сунион», хотя они говорят — «Афина», в единственном числе. В прозрачном павильончике автобусной остановки на лавочке валялись чьи-то штаны — чёрные, совсем новые, ладные на вид. Какие существа и сущности происходили здесь ночью? А может быть, просто сорвал ураган с бельевой верёвки и притащил сюда? Как странно, что эти штаны не в платяном шкафу или бельевой корзине. Остановка не отличалась от таковой где-нибудь в центре Москвы; и первое, что увидел из иллюминатора, когда приземлились в аэропорту, был магазин «Икея» — в точности такого же оформления и вида, как и у моего дома. Зачем я здесь? Разве не мог, подпитываясь фрикадельками из той «Икеи», что у моего дома, восстановить прошлое на бумаге, облечь образы в слова, придать мысли форму? Очень притягательно поехать междугородным автобусом, как обыкновенные греки, и, как они, заплатить 4.10; слушать обычные разговоры знакомых и незнакомых людей (конечно, они говорят о погоде, о Путине и Ахмадинежаде, которые смотрят на меня с передовицы газеты: даже здесь не могу убежать от там). Греки плохо владеют английским, и самое ужасное то, что и тебе приходится неимоверно обеднять свой язык, если ты не опасаешься быть не понятым. Когда я возвратился, то первое время наиболее неприятно было слышать слова и фразы и впитывать, объедаться ими, как неприятно, когда в течение дня оседает пыль и смог на нежной коже лица. Чужая, заведомо непостижимая речь помогает уйти себя, помогает раздумывать. Тот кондуктор, мальчишка почти, на вопрос: «How much does it cost?» — с усилием повторил: «Cost, cost… — и ответил: — Four Euro and ten… minutes». Потом он, конечно, поправился: «Cents». Но главное было уже сказано: четыре евро и десять минут — во столько обойдётся взойти на следующую ступеньку, претворить в жизнь крошечное, незначительное звено в цепи плана. Я нащупываю в рюкзаке податливые бруски энергетических батончиков. Питательные вещества, необходимые человеку для поддержания жизни, спрессованы в тридцать граммов чуть горьковатого вкуса. Одна шоколадка заменят завтрак, или ужин, или обед. На другой скорлупке земного шара, в канадских деревнях староверов, сейчас, может быть, ужинают. Я думаю о полярных лётчиках и антарктических экспедициях. Покупают ли они энергетические батончики в той же спортивной аптеке у метро «Братиславская», что и я? Тридцать пять рублей штука. Около одного евро. Если бы такие батончики были в экспедиции Роберта Скотта? Если бы протеиновые порошки, которые, разбавленные водой, вбрасывают в человека суточный заряд жизненной энергии, — если бы эти биохимические шедевры находились в блокадном Ленинграде?
2
Четыре евро и десять минут. Теперь, когда в отеле «Александр Beach» не ждёт меня стол и дом, каждый европейский день будет обходиться в сто десять евро. Проглатываешь батончик — и по желудку неспешно растекается щемящая теплота. Ещё накатывают позывы голода, организм не привычен к столь малым порциям, — следует переждать. И — следующие шесть часов бодрости, следующие шесть часов неуклонного продвижения. Для чего не поесть, как прочие? Для чего не присесть в кафетерии, не остановиться, не зажить размеренно? Для чего куратор упоминает о мюзик-холлах, о клубах? — ведь знаешь, это ведь так легко, и там можно — вначале я помогу тебе — у тебя получилось бы… — Куратору известно, что я восхищаюсь им: восхищаюсь безупречной укладкой волос, неизменной уверенностью, ощущаю почти вкусовое удовольствие, наблюдая за игрой цветов радуги, когда свет падает на полированную крышку его ноутбука. Но если я присяду в таверне, вырву из кошелька червонец или даже два — вдруг не достанет потом на Трансальпийский экспресс, на гостиницу или на что другое? Да, правда, кредитная карта: сейчас у всех есть кредитная карта, и здесь никто не держал в руках банкноту пятисот евро; но сколько лежит на ней? Может быть, и пятьдесят, может быть, двести тридцать. Как странно входить всё в тот же гипермаркет «Икея», заказывать фрикадельки, приготовленные из того же бразильского мяса по тому же рецепту, расплачиваться всё той же кредитной карточкой и говорить на том же английском, на каком говорил одиннадцать лет в череповецкой школе.
«В Афины!» — «Четыре евро и десять… минут». На самом деле минут — пятьдесят: столько отнимет путь. Оливковые деревья, эллинские древности, седая земля, по которой ступали боги, всё то, что вызвало восхищение О.М., Н.Г., и всё в них, что мальчиком восхитило меня, — лишь нескончаемая череда отелей за тонированным стеклом автобуса. Для чего я здесь, в Греции? Для того, чтобы на следующий день жадно испивать пространство, подвластное Трансальпийскому экспрессу. Я в Греции потому, что хочу попасть в Австрию. Моя тяга иррациональна, мучительна. Спокойнейшим голосом произнести именно те слова, которые в данный момент разве только уместно произнести. — Как можно говорить о Домах России за рубежом, если никто из нас не имеет представления о них? — медленнее; уверенней. — Предлагаю отправить выездную рабочую группу для непосредственного изучения рассматриваемого предмета. А странно, что куратор поддерживает меня, он отчего-то всё время благоволит мне. Покатившийся камешек вызывает обвал, искра возжигает бикфордов шнур. Я в Греции потому, что люди выдумали Шенгенскую зону, и Австрия входит в неё. «Разумеется, я ничего не знаю о человеке, которого ты стремишься найти, но я уверен, что в данный момент он размеренно и спокойно существует там, где живёт. Я думаю, что он занят, тот человек, что он занят делом, и возможно, что это дело почти так же важно и необходимо, как наше, как то дело, которым занимаемся мы — наша организация — мы с тобой. И тут вдруг возникнешь ты и примешься отнимать чужое время, примешься домогаться чужого внимания, чтобы тебя водили по городу, чтобы тебя занимали разговорами, потчевали обедами, — у тебя ведь нет денег, кроме как на Трансальпийский экспресс? Так разве не верхом эгоизма с твоей стороны будет врываться в чужую жизнь — ведь тебя не ждут, ты знаешь, тебя ведь не ждут; и коль скоро ты испытываешь хоть какие-то чувства к тому человеку, то не правильнее ли будет позволить ему и далее прозябать в роскоши спокойного существования?» — Куратор и я прозябаем в роскоши двухместного номера с видом на Эгейское. Отодвинув тарелку, смотрю, как официант, а может быть, сам хозяин заведения, зазывает прохожих, как полчаса назад он зазвал меня. Доброго дня, сударь. Желаете пообедать? Or just a cup of coffee? Я слишком часто произношу «я», слишком увлекаюсь навязчивыми повторениями. Почему Дома России находятся вне её? Я мог бы сказать в ответ и тех чувственных порывах, которые побуждали человека пересекать полярные области и в хрупкой гондоле аэростата вверяться игре ветров. Но я устал, неимоверно устал. Почему ты не спишь, ты ни одной ночи почти что не спал, замечает куратор. Именно так. Именно поэтому у меня нет сил дотащиться до ванной комнаты, хотя он только что принял душ и просит подать полотенце. Досадно видеть его атлетически сложенное тело, зная со всею определённостью, что, даже и убившись на тренажёрах, я никогда не приобрету этих мускулов, мои не знавшие работы руки всегда останутся похожи на пару плетей. Говорят, у некоторых людей мышцы какого-то другого строения: тренировками, физической работой невозможно их нарастить. Возможно, такая же конституция тела была и у моего отца.
3
Этот город на самом краю мелкомасштабной ландкарты Австрии. Этот город не отличается от многих других. Чем ближе я подвёрстываюсь к нему, тем отчётливее становится то ощущение, которое возникает, когда подобрался к пропасти и переглянул за срыв, где пена Эгейского серебрит уступ. Сколько необходимо заплатить, чтобы добраться туда? Четыре евро и десять минут. Знает ли куратор, что я держу под подушкой маникюрные ножнички? Я помню мягкость красок, приглушённых пеленой воздуха; необычайный простор, запах снега, низкие, коттеджного типа домики по обе стороны улицы, разделённой бровкой газона, — не сами образы, а именно ощущения их. Да, в возрасте около трёх я уже побывал в этом городе, и мама когда-то давно рассказывала, что от горного воздуха прекратился мой насморк. — Прошу тебя, остановись. Даже если невозможное произойдёт и через бездну пространства ты соединишься с тем человеком, то всё равно окажешься не в силах возвратить прошлое. Остановись, по-дружески я прошу тебя. Ведь у тебя есть мы. Я твой друг, я твой хороший друг, я доверяю тебе. Переживания детства, милые сердцу воспоминания — всё это важно, всё это бесконечно важно, и менее всего я хотел бы, чтобы ты отказался от них, — но зачем ты цепляешься за безвозвратно ушедшее? Кто думает о тенях, сам становится похож на тень. Сильная личность умеет перевернуть страницу. — Я знаю, отвечал бы куратору, сумей облечь мысли в речь. Да, я знаю, что прошлое недостижимо. И что посредством бумаги и типографских знаков мы в силах уловить бледные отсветы угасшего мира. Поэтому я отверг великодушное предложение и не поступил в Высшую школу экономики. Поэтому я поступил в институт Литературного творчества имени Серафимовича. Поэтому я поступил в ИЛТИС. Остановиться? Не возмечтать о несбыточном? Просыпаться после освежающего сна, завтракать слегка подогретыми тостами, ехать в университет, чтобы говорить на коллоквиуме об античных образах лирики О.М. и Н.Г., заказывать деловой обед в греческом ресторанчике, — памятник Серафимовичу виден, когда сидишь у витрины за дальним от входа столиком; потом, вечером, участвовать в работе рабочих групп и обсуждать с куратором тончайшие переливы чувств и нюансы искусства, и возвращаться домой, и разогревать в теплогрейке ужин, и засыпать крепким, здоровым сном, — я знаю, что девять из десяти моих сверстников загнаны в неизмеримо более трудные условия. Думаю о двадцатилетних, запертых в Череповце, Челябинске, Черкесске, Чебоксарах; в районах Чертаново Северное, Центральное, Южное; в отдалённых гарнизонах на берегах Студёного моря, в предгорьях Кавказа, в Люберцах и Мытищах, — и задаюсь вопросом: какое право имею я заявлять о своих «тревогах» и «переживаниях»; какое право имею начинать этот очерк со слов «Наиболее странное чувство я испытал за столиком афинской таверны». Я пытался остановиться. Бог свидетель, пытался.