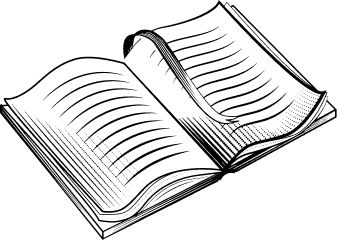М. А. Булгаков и М. М. Зощенко в 1920-е гг. столкнулись с теми же жилищными проблемами, что и персонажи их прозы
Приехав в Москву в 1921 году, Булгаков вместе с первой женой Т. Н. Лаппой поселился в одной из комнат квартиры № 50 в бывшем доходном доме на Большой Садовой, 10, где помимо них жили еще пять семей. Здесь писатель прожил четыре года, и хотя комната, как вспоминала Татьяна Николаевна, была хорошая и светлая, они столкнулись с крайней бытовой неустроенностью (отсутствием отопления, нестабильным водоснабжением, несоблюдением чистоты в квартире и т. п.) и конфликтами с соседями, поэтому Булгаков стыдился своего жилища и, как правило, не приглашал к себе никого из знакомых. Так, свои переживания он вложил в уста главного героя «Театрального романа», писателя Максудова: «Вообразите, входит Ильчин и видит диван, а обшивка распорота и торчит пружина, на лампочке над столом абажур сделан из газеты, и кошка ходит, а из кухни доносится ругань Аннушки»[1].
Подписывайтесь на наш канал в Телеграм: https://t.me/rus_culture_koltsova
Проживавшая в этой квартире упомянутая женщина по имени Анна Горячева послужила прототипом знаменитой Аннушки в «Мастере и Маргарите» (а также бабки Павловны в «Самогонном озере», Аннушки Пыляевой в «№ 13 — Дом Эльпит-Рабкоммуна» и др.), став для Булгакова символом страшного коммунального быта. Неслучайно, в последнем романе писателя она получила говорящее прозвище «Чума». А в канун 1922 года в квартире случился потоп — в результате сильной оттепели прохудилась крыша, в соседней с булгаковской комнате с потолка обвалился большой пласт штукатурки и чуть не нанес жильцам серьезных увечий[2]. Тем не менее писатель на первых порах с оптимизмом смотрел в будущее и был доволен условиями существования, о чем свидетельствует его письмо матери в Киев от 17 ноября 1921 года: «Идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни». Но «Въехав 11/2 месяца тому назад в Москву в чем был», я <…> добился maximum’a того, что можно добиться за такой срок. Место я имею»[3] (речь идет о работе в литературном отделе Главполитпросвета (Лито), куда он был зачислен секретарем). Однако уже спустя два месяца, когда Лито было закрыто и в поисках средств к существованию Булгаков был вынужден заниматься литературной поденщиной, от его прежних надежд и энергии не осталось и следа, о чем красноречиво говорят записи в дневнике от 25 января 1922 года: «[Я] до сих пор без места. Питаемся [с] женой плохо. От этого и писать [не] хочется»[4]. 9 февраля 1922 года: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. <…> Обегал всю Москву — нет места. Валенки рассыпались»[5].
В тоже время Т. Н. Лаппа отмечала, что писатель был склонен преувеличивать тяжесть своего положения перед окружающими и нередко описывал его в более мрачных тонах, чем оно было в действительности. Тем самым он искал любую возможность сократить вынужденные траты. Особенно показателен случай с машинисткой И. С. Раабен, которая, поверив в бедственное положение Булгакова, долгое время перепечатывала его рукописи, не получая за это никакой оплаты. Сохраненные таким путем деньги художник тратил на поддержание в глазах современников образа аристократа[6]. Вот почему воспоминания И. С. Раабен вызывали недоумение первой супруги писателя: «Зачем это — „жил по подъездам“, когда у него прекрасная комната была… Он ей (И.С. Раабен. — А.К.) просто мозги запудривал. Он любил прибедняться. Но печатать он ходил, скрывал от меня только»[7].
После развода с Т. Н. Лаппой и женитьбы на Л. Е. Белозерской в 1925 году в жизни Булгакова вновь наступили перемены. События этого периода жизни художника были зафиксированы в воспоминаниях его второй жены. Первое время супруги жили в квартире сестры Булгакова, Надежды Афанасьевны Земской, которая была директором школы и жила в одном из помещений здания бывшей гимназии. «Получился „терем-теремок“», где жили: «сама она, муж ее Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Н. А. Вера. Это уже пять человек. Ждали приезда из Киева младшей сестры Елены Булгаковой. Тут еще появились и мы. К счастью, было лето и нас устроили в учительской на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась, под портретом сурового Ушинского»[8]. Затем молодоженам удалось переехать во флигель в Обуховском переулке, 9, который они прозвали голубятней, но и здесь им также пришлось терпеть массу бытовых неудобств и быть свидетелями непрекращающихся соседских скандалов.
Булгаковская мечта об отдельном жилье смогла осуществиться только в 1927-м, когда литературный заработок позволил писателю снять небольшую трехкомнатную квартиру в доме № 35А на Большой Пироговской. В ней он прожил до 1934-го, переехав в феврале того же года в дом № 3 в Нащокинском переулке (ранее улица Фурманова). Перед этим художник сменил еще несколько комнат в коммуналках, но впечатления от жизни в самой первой — «нехорошей» — квартире оказались столь сильны, что нашли отражение в большинстве его произведений[9].
Поэтому неудивительно, что эти дом и квартиру Булгаков не раз «сжигает» в своих произведениях, и подобный сюжетный поворот позволяет сделать однозначный вывод о его отношении к своим бытовым условиям и соседям. Вместе с тем «квартирный вопрос» не сводился для писателя к личным жилищным трудностям или проблемам большинства москвичей. Для него вопрос о жилище носил не только бытовой, но и бытийный и морально-этический характер, что было сформулировано в одном из булгаковских очерков: «Условимся раз и навсегда: жилище есть основной камень жизни человеческой. Примем за аксиому: без жилища человек существовать не может»[10]. В Доме Булгаков видит важнейшую опору личности, именно его пространство и входящие в него очаг, свет лампы под абажуром и другие привычные детали обстановки способны защитить человека от натиска внешнего мира. Коммунальная же квартира, пришедшая вместе с новым строем на смену дому, была рассчитана, как казалось писателю, на уничтожение личности. Подобного рода «общежитие» позволяло установить тотальный контроль над поведением каждого жильца и неизбежно развивало в людях зависть и злобу, толкало к доносительству, которое стало считаться проявлением гражданской бдительности и доблести. Вот почему пространство коммунальной квартиры приобрело в прозе Булгакова «фантастические свойства и фантасмагорические очертания», что помогало художнику показать абсурдный характер новой реальности[11].
Как и Булгаков, в начале 1920-х Зощенко тоже неоднократно сталкивался с жилищными перипетиями. Уйдя на фронт в начале Первой мировой войны, будущий писатель в феврале 1917 года после отравления газами был отчислен в резерв и вернулся в Петроград в родительскую квартиру, откуда переехал в квартиру В. В. Кербиц, на которой женился в 1920-м. Эта квартира была выделена ей за работу учительницей, но после рождения сына супруга Зощенко потеряла на нее право, и ему пришлось снять для них две комнаты в квартире семьи Кербиц. Однако обстановка была столь стесненной, что возможности для жизни и работы самого Зощенко там уже не имелось, поэтому он был вынужден поселиться отдельно — в комнате коммунальной квартиры на улице Герцена, 14.
Поступив в 1921 году в литературную студию Дома искусств, где находилось общежитие для писателей, он перебрался туда, но до получения комнаты часто оставался и ночевал на стульях в комнате собрата по перу М. Л. Слонимского, так как занятия в студии проходили вечером, и художник из-за больного сердца не мог ходить ночью пешком на Петроградскую сторону, где проживал в тот момент[12].
С 1920 года супруги летом снимали дачу в Сестрорецке[13]. Своеобразная атмосфера этого места поразила К. И. Чуковского, который позднее вспоминал о ней так: «Как-то летом в середине двадцатых годов я пошел разыскивать его (Зощенко. — А.К.) жилье в Сестрорецке (он жил в какой-то слободе на окраине). День стоял жаркий, и все обитатели были на улице или за низкими заборами своих чахлых садов. То и дело до меня доносились обрывки их криков, перебранок и мирных бесед, и меня поразило, что все эти люди, и мужчины, и женщины, изъясняются между собою по-зощенковски. Писатель жил в окружении своих персонажей, в сфере канонизированного им языка»[14]. Перечисленные факты позволяют сделать вывод, что в первой половине 1920-х Зощенко получил развернутое представление об устройстве советского коммунального быта, имея возможность приобщиться к частной жизни и быту простых граждан.
Как и Булгаков, получить отдельное жилье писатель смог в 1927 году, переехав с семьей в пятикомнатную квартиру на улице Чайковского, 75, а в 1934-м — в такую же по площади в «Писательском доме» на улице Софьи Перовской, 4/2 (ныне Малая Конюшенная), где прожил до конца жизни. Но после событий 1946 года и исключения из Союза писателей, из-за чего остался без средств к существованию, Зощенко был вынужден дважды менять жилплощадь на меньшую с доплатой, чтобы вернуть долги. В конечном итоге он переселился в крохотную двухкомнатную квартиру, где ныне расположен музей писателя[15].
Несмотря на существенное улучшение бытовых условий в конце 1920-х, близко знавшие писателя люди отмечали его скромность в повседневной жизни. М. Л. Слонимский вспоминал, что, когда у Зощенко появлялись деньги, он не берег их, и раздавал, всем, кто просил, по большей части безвозвратно. По его мнению, Зощенко совсем не умел заботиться о себе, о своих удобствах, «он любил только изящно одеться, вот и все»[16]. Точку зрения Слонимского разделяла общая знакомая литераторов, художница Н.А. Носкович-Лекаренко, вспоминавшая, что «Зощенко равнодушно относился к вещам», хотя «хорошо разбирался в старине, и получал удовольствие от того, чтобы делать друзьям, увлекающимся искусством, ни к чему не обязывающие подарки»: например, старинную табакерку, шкатулку, вязаный кошелек XVIII века[17].
Поэтому к вопросу размера жилища и его обустройства Зощенко и его жена подходили по-разному. В отличие от мужа, В. В. Кербиц трепетно относилась к вещам и своему внешнему виду. Еще одна знакомая пары описывала ее, как «манерную говорливую даму, одетую во что-то воздушное голубое с оборочками, в немыслимых шляпках»[18].
Когда же супруги переехали в отдельную квартиру, Вера Владимировна потратила немало сил и средств, чтобы как следует обставить жилище дорогой старинной мебелью (она собирала антиквариат). При этом знакомые отмечали, что самому Зощенко подобная любовь к роскоши была чужда, он «жил как-то отдельно даже в общей семейной квартире»[19]. Сходным образом описывала убранство квартиры Зощенко и упомянутая Носкович-Лекаренко: «обстановка его в комнате была достаточно аскетичной», хотя «Михаил Михайлович был очень добрым и щедрым человеком и, думаю, никогда не препятствовал желанию Веры Владимировны обставлять свою жизнь так нарядно, когда появилась эта возможность»[20].
Думается, что подобное равнодушие к окружающей его бытовой стороне существования не в последнюю очередь можно объяснить складом натуры и воспитанием Зощенко. Современники отмечали, что выше всего писатель всегда ставил литературный труд, однако это отнюдь не было следствием гордыни или стремления к славе. Сама В. В. Кербиц в воспоминаниях писала, как в начале их романтических отношений спросила у того, что для него самое главное в жизни, и «была уверена, что услышу: „Конечно же, вы!“ Но он сказал очень серьезно и убежденно:
— Конечно же, моя литература…
И это была правда <…> всей его жизни, потому что не было у него ничего «главнее» его литературы, которой он отдал всего себя без остатка»[21].
Подобное убеждение, как представляется, обусловило и литературный демократизм писателя. Все без исключения современники соглашались, что к каждому человеку, который встречался ему на жизненном пути, Зощенко относился уважительно и на равных. Особенно значимо это было для начинающих литераторов, многим из которых писатель не раз оказывал помощь и поддержку. К примеру, В. Поляков вспоминал, как принес на суд Зощенко свои первые, далеко не удачные, творения. Последний вежливо и тактично указал на имеющиеся недочеты. При этом он отвел Полякова «в отдельную комнату (события происходили в издательстве, где их могли услышать другие писатели) и без свидетелей уважительно и деликатно дал несколько практических советов[22].
По признанию другого писателя, М. Левитина, появлением своей первой книги он также был обязан именно Зощенко: начинающий автор мечтал издать сборник рассказов, но сомневался в собственных силах. Тогда Зощенко сам отобрал понравившиеся ему тексты и способствовал появлению книги, а позже организовал банкет в честь литературного крещения нового автора[23].
Подобного рода случаи происходили неоднократно, поэтому знакомые Зощенко были единодушно убеждены, что «в нем не было никакого высокомерия, никакой горделивости, хотя цену себе он, конечно, знал»[24]. В тоже время многие отмечали, что писатель «совершенно не излучал превосходства»[25], хотя между ним и собеседником всегда ощущалась какая-то дистанция, но это «была дистанция все той же отличной воспитанности, деликатности. С хозяевами дома Зощенко был на „ты“, но и это было какое-то очень вежливое, лишенное панибратства „ты“. Оно выражало, пожалуй, лишь душевное дружелюбие, не более того»[26]. Упомянутый демократизм, думается, обусловил и взгляд писателя на творчество.
По мнению М. Л. Слонимского, главной целью Зощенко было создание подлинно народной литературы: он «в ту пору не раз заговаривал о том, что надо писать для народа, создавать народную литературу, и это были не просто слова. Чувствовалось, что это убеждение выращено всем его жизненным опытом»[27]. Можно предположить, что не в последнюю очередь этим объясняется стремление писателя «представительствовать от лица нового человека 20-х годов», который утратил прежние культурные ориентиры и не обрел новые[28]. И хотя Зощенко так и не смог полностью «консолидироваться со своим героем хотя бы в силу принципиально иного культурного опыта, воспитания, образования, творческого дара», но сделал сознание последнего главным предметом изображения в своей прозе, так как понимал, что именно типичный обитатель коммунальной квартиры, «человек массы», теперь является «главным действующим лицом истории»[29].
Любопытно, что если коллеги-«серапионы» описывали Зощенко в категориях рыцарства: гордое достоинство, готовность дать отпор, уважение к людям, храбрость, самоотверженность, то восприятие писателя их женами несколько отличалось. И. И. Слонимская видела в его облике «особую зощенковскую элегантность» и постоянную подтянутость, а также нежную ранимую душу, которую легко обидеть[30]. Жена Вс.В. Иванова Тамара Владимировна также отмечала, что Зощенко, в силу, как ей казалось, особенностей душевной организации, был ближе мягкий женский, чем мужской диалог[31]. Ей вторила еще одна знакомая писателя С. С. Гитович, упомянув «медленные, неуверенные движения» Зощенко[32].
Вот почему, думается, обратившись в своем творчестве к анализу феномена коммунальной квартиры, писатель запечатлел не только проблемы и нелепости, связанные с проживанием ней, но и попытался озвучить в своих художественных текстах представление о том, как в идеале должно быть, по его мнению, устроено коллективное сосуществование советских людей в ней.
Показательно с этой связи упоминание Слонимского о том, что у Зощенко была особая мечта, о которой он осторожно упомянул друзьям уже еще в 1921 году. Прошедший Первую мировую, он мечтал написать повесть под названием «Записки офицера», в основу ее сюжета должна была лечь встреча в прифронтовом лесу представителей двух разных социальных слоев и культур — офицера и вестового. «Два разных человека, две разные культуры. Но офицер уже кое-что соображает, чувствует… Тут Зощенко оборвал и заговорил о другом»[33]. В дальнейшем писатель не раз возвращался в разговорах к этому замыслу, который, однако, так и не воплотил, поскольку никак не мог, как ему казалось, убедительно передать «то свежее, молодое чувство сродства с вестовым, с солдатами, с народом», которое испытал офицер (чей образ несомненно имел автобиографическую основу) и которое сам художник он «словно берег в душе, как камертон», который давалвший «ему тон в жизни и в литературе»[34].
При этом Зощенко никогда не идеализировал «маленького человека». В 1915–1920 годы он прошел суровую школу жизни, сменил множество профессий и глубоко познакомился с нравами, привычками, образом мысли и языком широких народных масс. К. И. Чуковский в этой связи замечал, что Зощенко удалось не подчиниться всепоглощающей стихии обывательщины, а помогло ему в этом особое отношение к смеху: для того, чтобы создать произведения, где настолько достоверно и в сгущенном виде переданы особенности языка и мышления народа, «в сознании писателя должен постоянно присутствовать строго нормированный, правильный, образцовый язык. Только на фоне этой безукоризненной нормы могли выступить во всем своем диком уродстве те бесчисленные отклонения от нее», которыми изобилует речь его «уважаемых граждан»[35]. Но от любого учительского влияния, от желания повлиять на его убеждения, навязать свой стиль общения, начинающий автор «горделиво отгораживался» «своей пародией»[36].
В этой связи многие товарищи по литературному цеху отмечали, что Зощенко готов был простить людям многие безнравственные поступки и в целом снисходительно смотрел на их прегрешения, «отказывался судить людей, легко прощая им подлости, пошлости, даже трусость»[37]. Более того, его «особенно интересовали люди ничтожные, незаметные, с душевным надломом»[38], — писал еще один литератор. Тем не менее Зощенко всегда отличали именно уважение и сострадание к простому обывателю. Поэтому его смех — это, по выражению Т. В. Ивановой, смех «сквозь сочувствие»[39], что убедительно доказывало наличие у художника ярко выраженной способности поставить себя на место другого человека, посмотреть на мир его глазами, оставаясь при этом самим собой.
Думается, именно эта особенность определила общий вектор творчества Зощенко и в значительной степени задала оптику изображения пространства коммунальной квартиры и ее обитателей в его прозе 1920-х.
Внутренняя организация коммунальной квартиры в прозе М. М. Зощенко и М. А. Булгакова 1920-х гг.
В рассказе «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» Булгаков показывает превращение доходного дома, принадлежавшего господину Эльпиту, в «Рабкомунну» и те трансформации, которые происходят с его внутренним пространством и в конечном итоге приводят к уничтожению здания. До революции жильцами дома № 13 были богатые и респектабельные люди (директор банка, фабрикант, бас-солист, генерал, присяжные поверенные, доктора и др.), а управлял им Борис Самойлович Христи, при котором был образцовый порядок: «Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех квартирах наливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы… В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов… Ковры… В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла»[40]. «Покой», тишина, блеск, «массивность» и торжественность становятся для Булгакова ключевыми характеристиками прошлого. Описание интерьера и других связанных с ним бытовых реалий передают авторскую оценку ушедшей эпохи как времени, связанного со стабильностью, устойчивостью, постоянством, достатком и благополучием.
После 1917 года хозяевами квартир стал «невиданный люд» (2: 244) — рабочие соседней типографии. И как только управление домом перешло в руки пролетариата, его интерьер значительно изменился — он мгновенно утратил свой лоск: на лестничных площадках исчезли лампы и «наступал ежевечерне мрак», перестали работать лифты, а в гостиных новые жильцы развешивали сырое белье и готовили на чадящих примусах, а в некоторых комнатах «вытопили паркет» (2: 243). Существенно увеличилось и само количество жильцов, что не могло не сказаться отрицательно на внутреннем пространстве квартир и лестничных площадок. В доме № 13 было расположено семьдесят пять квартир, в которых после революции оказались расселены девятьсот тридцать человек. Можно сделать вывод, что население стало располагаться более скученно. Закономерно должны были возникнуть бытовые проблемы, связанные с увеличением нагрузки на электрическую сеть и, как следствие, частым отключением электричества.
Тем не менее бывший домовладелец Эльпит верил, что власть большевиков не продержится долго и вскоре отнятый дом вернется ему. Поэтому он упросил бывшего управляющего не покидать дом и внимательно следить за тем, чтобы зимой здание постоянно отапливалось, ведь иначе жильцы начнут топить буржуйки, что неминуемо приведет к пожару. Христи долгое время удавалось выполнять эту миссию, однако в один из морозных дней возникла проблема с горючим. Он и «санитарный наблюдающий» Егор Нилушкин следили за тем, чтобы жильцы не топили печки, несмотря на мороз. Однако обитательница 50-й квартиры Аннушка Пыляева не выдержала холода и растопила буржуйку выломанными из пола паркетинами. Тяга пошла по вентиляционному ходу, обитому войлоком, оттуда — на чердак, и в результате дом сгорел.
Немаловажно в этой связи, что описание пожара носит апокалиптический характер: спасшиеся жильцы видят в небе распластавшегося «жаркого оранжевого зверя (2: 249), что отсылает к образу Зверя из Бездны из „Откровения Иоанна Богослова“, где описываются катаклизмы и бедствия, сопровождающие Второе пришествие Иисуса Христа на землю и конец света. Таким образом оценка изменений прежнего облика дома № 13 и его конечной судьбы дана Булгаковым с двух позиций: философской и эмоциональной. На первом уровне художнику важно вписать пространство дома и его управляющего в матрицу христианского мифа: указать на его жертвенную и страдательную позицию последнего, подчеркнуть опасность, исходящую от окружающего его пролетарского „темного царства“. А это, в свою очередь, помогает ему более тонко выразить причины неприятия современной действительности. Несмотря на то, что писатель признавал неизбежность гибели царской России, вот почему в начале текста появляется множество „симптомов“ разложения старого мира (упоминается распутинщина, среди жильцов много людей сомнительных профессий и развратников, на что указывает такая выразительная деталь их внешности, как „чуть-чуть испорченные“, „уголовные“ глаза; даже Христи оказывается наделен демоническими чертами и назван „матово-черным дельцом“; 2: 243), он стремился внушить читателю мысль, что революция „куда более катастрофична, чем прежний режим“[41].
Подлинный дом, безопасный, оберегающий человека от угроз внешнего мира, оказался, в представлении Булгакова, подменен эрзацем, суррогатом, в результате чего жильцы оказываются вынуждены приспосабливать для сна и отдыха места, для этого не предназначенные (например, герою рассказа «Площадь на колесах» (1924) приходилось ночевать то в ванне, где «удобно, только капает», то на газовой плите, то «в парке»; 2: 427), или просто селиться в полуразрушенных, ветхих и изначально не предназначенных для проживания людей строениях, как в рассказе «Птицы в мансарде», сюжет которого строится вокруг студенческого общежития, расположенного на территории Ваганьковского кладбища.
При этом сами обитатели не осознают ненормальность тех условий, в которых вынуждены существовать. Напротив, они кажутся им привычными и относительно нормальными, и это не может не вызвать горькую усмешку Булгакова. Поэтому в рассказе «Трактат о жилище» (1926) герой, выступающий выразителем авторской позиции, иронично замечает, что квартирой теперь «наивно называют что попало» (2: 437). По той же причине для описания комнат он использует характерные сравнения: «шахта», «картонки для шляп», «телефонные трубки» (2: 438), то есть пространства, в принципе не предназначенные для обитания людей в них.
В сходных условиях оказываются и персонажи рассказов Зощенко. Например, главному герою рассказа «Кризис» (1925) в качестве жилья досталась ванная в одной из коммунальных квартир. Выбрать для проживания иную жилплощадь он не может, так как в стране в целом «трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается ввиду кризиса»[42]. Тем не менее преимуществом этого места жительства, несмотря на отсутствие окон, является дверь, которая способна обеспечить его автономность от смежных с ним жилых пространств. Но в действительности оказывается, что она никак не защищает обиталище рассказчика от постоянных вторжений чужих людей, ведь кроме него ванной комнатой по прямому назначению пользуются «тридцать два человека», и на это время герою с семьей «приходится в коридор подаваться» (2: 181). При этом жилплощадь в рассказе подвергается дальнейшему «делению»[43]. Герой женится, становится отцом, чтобы помогать ухаживать за внуком приезжает мать жены и селится в этой же ванной за колонкой. И если жену героя не смущает теснота («Что ж, — говорит, — и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, говорит, случае перегородить можно. Тут, говорит, для примеру, будуар, а тут столовая»; 2: 180), то сам он не выдерживает постоянно сжимающегося вокруг него личного пространства и в конечном итоге сбегает из своего дома. Узнав, что на рождественские каникулы должен приехать брат жены, рассказчик оставляет семью и «выбывает из Москвы» (2: 182). Этот «побег» становится своеобразной попыткой отстоять свое «я», «вновь овладеть самим собой»[44]. В то же время такой поступок перекликается с биографией самого Зощенко, который, как упоминалось, после рождения сына был вынужден поселиться отдельно от семьи. Тот факт, что рассказчик уезжает от близких, но высылает им деньги по почте, позволяет предположить, что о полном разрушении данной ячейки общества речи все же не идет, и как только позволят жилищные обстоятельства, она вновь воссоединиться, как это произошло с семьей самого художника. Таким образом, хотя Зощенко высмеивал абсурдность существующих бытовых условий, он тем не менее верил в то, что они могут быть преодолены, а значит, жизнь современников рано или поздно существенно улучшится.
Лишившись дома, герои Булгакова, как и зощенковский персонаж, пытаются «окультурить» любое пространство, которое можно использовать для жилья. Так, в уже упоминавшемся рассказе «Площадь на колесах» описана абсурдная ситуация обустройства дома в трамвае. Приехавший из Елабуги гражданин Полосухин вынужден обживать необычную жилплощать, так как в Москве он не смог найти не то что комнату, но даже угол в коммунальной квартире. Вот почему неожиданное обретение крыши над головой кажется ему подлинным чудом: «Ездим. Дай бог каждому такую квартиру!» (2: 427). Неудивительно, что в скором времени другие трамваи также превращаются бездомными горожанами в коммуналки: один из «соседей» рассказчика «отделился в 27 номер. Мне, говорит, это направление больше нравится» (2: 427). Другому «в 6-м номере удобно», так как у него «служба на Мясницкой». Сам же гражданин Полосухин мечтает «переехать в 4 номер двойной» (2: 428), то есть расширить жилплощадь.
Однако жилищный кризис в Москве столь велик, что и это абсолютно не приспособленное для постоянного проживания пространство неизбежно подвергается «уплонению»: к герою из Елабуги приезжает жена с детьми, кроме того, в число «жильцов», по сути, входят и вагоновожатый с кондукторшей, следящие за порядком и взимающие плату за проезд, что усиливает абсурдность происходящего. Тем самым Булгаков демонстрирует фантастическую способность пространства коммунального жилья «вбирать» в себя неограниченное число обитателей[45].
Но внезапно все обитатели лишаются своей «площади на колесах», поскольку жилищная инспекция «всаживает» на их место различные учреждения, в числе которых милиция и школа. Таким образом писатель подчеркнул антигуманность нового общественного строя, где не только утрачено право человека на собственное жилье и его приватность, но и обесценена сама его личность.
Примечательно в то же время, что импровизированный «дом» быстро приобретает все необходимые атрибуты нормального человеческого жилья: рассказчик и его «соседи» стелют ковры, развешивают картины, устанавливают печи и плиту, устраивают уборную и даже собираются установить к Новому году елку. Подобные детали можно рассмотреть как знаки непреодолимой тоски обитателей «квартиры на колесах» по утраченным уюту, теплу, необходимым для жизни вещам и покою и призваны. Но с другой стороны, они красноречиво демонстрируют полную деформацию понятия «дом» в их сознании, что также является для Булгакова признаком бесчеловечной природы советской власти.
То же авторское убеждение пронизывает рассказ «Птицы в мансарде», сюжетообразующим стержнем которого становится описание быта будущих педагогов, проживающих в общежитии в Ваганьковском переулке.
Представшая глазам рассказчика обстановка буквально ужасает его. Главными характеристиками жилища эмпиновцев становятся тотальная разруха и чудовищная грязь. Комнаты студентов расположены в «сером, грязном, мрачном» флигеле с «пыльными окнами», «выщербленными ступенями», во дворе которого «узорами вьются» помои, картофельная шелуха и человеческие экскременты[46]. Внутреннее пространство не менее поражает рассказчика скудостью и бедностью обстановки. Найдя нужную комнату, он оказался «в большом, высоком помещении с серыми облупленными стенами», на одной из которых висел «большой лист на серой стене с крупной печатной надписью „Тригонометрические формулы“» (2: 399). Посреди комнаты «длинный вытертый засаленный стол, возле него зыбкие деревянные скамьи. По стенам под самыми окнами стояли железные кровати с разъехавшимися досками. На них кой-где реденькие, старенькие одеяла, кое-где какой-то засаленный хлам грудами, тряпье, пачки книг. Лампочка на тонкой нити свешивалась над столом, довершая обстановку» (2: 399).
Как и в рассказе «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна», в интерьере общежития на Ваганьковском важным мотивом становится холод. Выясняется, что эмпиновцы разобрали в комнате печку, поскольку из-за нагревавшегося воздуха на крыше начинал таять снег, а поскольку кровля прохудилась, вода заливала всю комнату. Кроме того, печка сильно дымила, поэтому обитатели комнаты начинали задыхаться. В результате студенты оказались лишены не только источника тепла, без которого невозможно выжить в морозы, но и в переносном смысле домашнего очага, с которым всегда ассоциируется печь, и отныне обречены существовать на «птичьих правах». Но если птицы как раз таки способны свить гнездо, которое служит для них надежной защитой, то люди, как показывает Булгаков, вынуждены ютиться, где придется, и в любой момент могут потерять свой угол.
В этой связи чрезвычайно значимым становится и место расположения общежития — территория возле Ваганьковского кладбища. Читатель не может не почувствовать авторской иронии: в отличие от живых покойники имеют вечный дом, откуда их никто не может выселить или уплотнить. Тем самым писатель недвусмысленно намекал на абсолютную противоестественность условий людского существования в советском государстве.
Утрата эмпиновцами домашнего очага заставляет еще раз вспомнить о роли женщины как его хранительницы. Этот мотив возникает в булгаковском рассказе, но подвергается трансформации. После осмотра мужской комнаты рассказчик идет к студенткам, чье жилое пространство, на первый взгляд, выглядит более уютным и обустроенным. «Во-первых, висел какой-то рыжий занавес, напоминающий занавес в театральной студии; во-вторых, кровати были как-то уютнее и приличнее застланы! Видна женская рука» (2: 401). Но это впечатление оказывается иллюзией, ведь «в остальном» на женской половине было «одинаково со студентами»: «собачий холод зимой», и «беготня в Румянцевский музей за надобностями, ничего общего с напрямым музея не имеющими» (2: 401). Поэтому упоминание о «женской руке» звучит как насмешка, а слово общежитие приобретает дополнительный смысл. Если раньше общежитием, по сути, была семья, каждый член которой вносил вклад в укрепление домохозяйства, то в новых исторических обстоятельствах ему на смену пришло временное сожительство чужих друг другу людей, никто из которых вопреки внушаемым идейным установкам не заинтересован в сохранении общего жилища, поддержании в нем чистоты и порядка, что неизбежно ведет к его запустению и разрушению, обрекая обитателей на бездомность, а фактически, на небытие.
Описанная художником «мерзость запустения» царит в булгаковских произведениях буквально повсюду. Так, в «Трактате о жилище» глазам читателя предстают не менее отталкивающие детали и подробности: разлитые на лестнице щи, отсутствие перил, оборванный кабель, оставленный кем-то на лестнице, битое стекло под окнами, доски в окнах, заменяющие разбитые стекла и т. п. Складывается впечатление, что жильцы коммунальных квартир вопреки здравому смыслу стремятся сделать окружающее их пространство как можно менее пригодным для проживания. К примеру, в рассказе «Самогонное озеро» у соседки рассказчика по коммунальной квартире бабки Павловны в комнате полгода жил живой поросенок, а спустя некоторое время в числе «квартирантов» оказывается петух, то есть жильцы в прямом смысле слова превратили квартиру в хлев.
Ощущение абсурдной атмосферы советской коммуналки довершает в произведениях Булгакова описание пьяных бесчинств ее жильцов. В том же «Самогонном озере» один из соседей, Гаврилыч, напившись, становится похож «на отравленного беленой (atropa belladonna)» (2: 322) и, словно действительно обезумев, выдирает перья из хвоста упомянутого петуха. Другие соседи в опьянении также совершают нелепые выходки: затевают безудержные пляски посреди дня, бьют стекла и бьют друг друга. Рассказчик постоянно пытается их утихомирить, но его усилия не приносят никакого результата, поэтому жизнь в коммунальной квартире воспринимается им как безумие, вырваться из которого можно, только покинув ее, то есть став бездомным.
Мотив нелепости коммунального быта можно обнаружить и у Зощенко, например, в рассказе «Телефон» (1926). Казалось бы, наличие возможности установить в комнате телефон — это доказательство того, что к середине 1920-х годов бытовые, а значит, и жилищные в целом проблемы постепенно уходят в прошлое, ведь такая деталь интерьера как телефон служит символом комфорта и относительного достатка. Однако по прямому назначению телефон ни разу не был использован: друзья, родственники и любимые так и не позвонили главному герою. Напротив, его покупка становится причиной совершившейся в квартире героя кражи. В результате «дома <…> полный кавардак. Обокраден. Нету синего костюма и двух простынь. <…> Обокраден вчистую» (2: 224). Злоумышленники позвонив хозяину, убеждают его покинуть квартиру и в это время совершают грабеж. Причем воры не побрегзовали даже простынями, и с помощью этой детали автор, вероятно, подчеркнул мысль, что в условиях только складывающего в 1920-е нового быта люди испытывают нужду в самых элементарных предметах повседневного обихода, однако, думается, эта нужда не может служить, по мысли писателя, оправданием воровства. Тем не менее произошедшее не ввергает рассказчика в отчаяние, и этот факт, как представляется, свидетельствует о косвенно внушаемой Зощенко читателю мысли о том, что не следует излишне привязываться к материальному. Гораздо важнее для человека — найти близких и понимающих людей, присутствие которых сделало бы кражу невозможной.
Аналогичный «Телефону» эпизод можно обнаружить в рассказе Булгакова «Трактат о жилище». Казалось бы, дом оборудован лифтом, что говорит об определенном бытовом благополучии его жильцов. Однако лифтом могут пользоваться только люди с пороком сердца, а в действительности они тоже вынуждены подниматься по лестнице пешком, так как механизм постоянно ломается: «Когда ночью я возвращался из гостей, лифт висел там же, но был темный, и никаких голосов из него не слышалось. Вероятно, двое несчастных, провисев недели две, умерли с голоду»[47]. Последнее предположение рассказчика является очевидным преувеличением (застрявших, вероятно, давно освободили), Булгаков стремится убедить читателя в принципиальной несовместимости понятий удобства и комфортабельности и коммунального жилья. Как и телефон в рассказе Зощенко, лифт в этом произведении, задуманный как способ для быстрого и комфортного подъема на верхние этажи здания, не только не выполняет требуемых от него функций, но и становится источником опасности и потенциально даже гибели тех, кто решил им воспользоваться. Поэтому в отличие от Зощенко Булгаков убежден, что материальная обстановка крайне важна для людского существования, а ее разрушение становится отражением необратимого разрушения привычного для человека мироустройства.
Как уже упоминалось, коммунальная квартира в представлении идеологов новой власти служила местом, где люди должны были учиться коллективному сосуществованию, взаимопомощи и взаимовыручке, лучше понимать интересы друг друга, то есть преодолеть собственный эгоизм. Однако в условиях катастрофического дефицита личного пространства и нескончаемых бытовых неурядиц, перенаселенность и вынужденное соседство друг с другом людей разных уровней культуры и образа жизни неизбежно порождали многочисленные конфликты и столкновения между жильцами. Яркий пример тому показан в рассказе Булгакова «Самогонное озеро»: рассказчик, молодой, интеллигентный журналист, постоянно участвует в стычках с жильцами более низкого культурного уровня. Герой не может остаться равнодушным, когда слышит женские или детские крики во время соседских драк, однако вмешательство в них всегда оборачивается против самого спасателя: соседи грозят ему выселением и возобновляют бесчинства. Герой пытается отстраниться от царящего вокруг него хаоса и абсурда, погрузившись в работу или чтение, но соседи не позволяют ему и этого. Бабка Павловна постоянно требует от рассказчика прекратить «жечь лампочку» по вечерам, когда тот работает над очередным фельетоном, член жилищного правления Иван Сидорыч входит в комнату без спроса и отвлекает просьбой написать объявление об организуемом им кружке по изучению эсперанто и т. п. Все это не позволяет рассказчику осуществить мечту — написать роман, гонорар за публикацию которого позволил бы ему оставить проклятую квартиру и найти другое жилье, что приводит его в отчаяние. Герой чувствует себя загнанным в ловушку, выбраться из которой он может лишь на время — отправившись в гости «на Никитскую к сестре» (2: 325), но, по сути, придя в точно такую же коммуналку.
Однако конфликты в коммунальной квартире вспыхивают не только между интеллигентами и пролетариями, но и между самими представителями рабочего класса. В рассказе Зощенко «Летняя передышка» (1929) описана типичная причина такого столкновения. При этом рассказчик приветствует коммунальный быт, объясняя свою логику так: «Заиметь собственную отдельную квартирку это все-таки как-никак мещанство. Надо жить дружно, коллективной семьей, а не запираться в своей домашней крепости. Надо жить в коммунальной квартире. Там все на людях. Есть с кем поговорить. Посоветоваться. Подраться» (2: 554). В этой связи не может не обратить на себя внимание использование героем в речи популярных политических лозунгов, что, думается, помогает Зощенко продемонстрировать разницу между замыслом идеологов нового быта и его реальным пониманием в широкой народной среде, которая нуждается в дальнейшем просвещении. Тем не менее рассказчик также осознает сложность сосуществования под одной крышей людей разных стиля жизни и образа мыслей. Вот почему даже такая простая житейская ситуация, как необходимость коллективно платить за свет, становится крайне непростой задачей для девяти семей, живущих под одной крышей. Один из жильцов постоянно стремится экономить электричество, поэтому неудивительно, что его раздражает неэкономное поведение соседей., так как кто-то любит читать по вечерам — для этого ему нужен свет. Это вызывает объяснимое раздражение «сознательного» квартиранта, так как ведет к лишнему расходу электроэнергии, за которую в конце месяца вынуждены будут платить все обитатели квартиры. Кто-то поздно ложится спать и зажигает свет, чтобы поужинать, в то время как остальные соседи имеют иной распорядок дня и не привыкли пользоваться освещением ночью. В результате плата за электроэнергию неудержимо растет, что вызывает понятное недовольство соседей, которые безуспешно пытаются найти виновного, однако не могут видеть, что происходит за закрытыми дверями комнат, где каждый из них «может быть, еще лампочку перевертывает на более ясную», «на электрической вилке кипяток кипятит или макароны варит» (2: 555). Возникший конфликт приводит к трагикомическим результатам. Сначала экономный сосед-грузчик лишается рассудка в результате постоянной слежки за соседями и попадает в лечебницу, а в конце концов жильцы решают вовсе перерезать электропровод, чтобы обеспечить себе «летнюю передышку» от постоянного беспокойства по поводу распределения платы за электроэнергию. Таким образом Зощенко показал, что взаимопонимание между обитателями коммуналки в принципе достижимо, однако на данном историческом этапе его цена может быть довольно высока — за счет усиления общего бытового дискомфорта. Тем не менее он верил, что со временем эти сложности неминуемо отойдут в прошлое: «когда наша промышленность развернется, тогда можно будет каждому жильцу в каждом углу поставить хотя по два счетчика. И тогда пущай сами счетчики определяют отпущенную энергию. И тогда, конечно, жизнь в наших квартирах засияет, как солнце» (2: 554). И хотя эти слова принадлежат рассказчику, думается, что, несмотря на звучащую в тексте иронию автора, он согласен со своим персонажем.
Рассказ Зощенко «Мерси» (1929) также повествует о трудностях совместного проживания людей разного темперамента, режима дня и ритма жизни. При этом любопытно, что если в рассказах Булгакова герою-интеллигенту трудно ужиться с «пришедшим хамом» — представителем рабочих профессий, которого он описывает как импульсивного, агрессивного, не имеющего представления о добре и зле, о нормах сосуществования субъекта, способного отравить ему существование «совершенно свободно» (2: 323), то в рассказе «Мерси» ситуация оказывается зеркальной. Текстильщику оказывается невыносимо трудно жить в коммунальной квартире, населенной исключительно представителями интеллигенции, среди которых, например, инженер и музыкальный техник. В результате привычки образованных жильцов и те требования, которые они предъявляют рабочему, приводят к значительному ухудшению состояния здоровья последнего. «Для примера, Захаров встает <…> в пять» или «там в половине пятого <…> он на работу встает, не на бал. А инженер <…> об это время как раз ложится. <…> И в стенку стучит. Мол, будьте любезны, тихонько двигайтесь на своих каблуках» (2: 582). Сосед-музыкант также не проявляет ни малейшего уважения к потребности главного героя в полноценном отдыхе и сне. Когда Захаров после рабочего дня хочет «тихонечко полежать, подумать про политику или про качество продукции», «музыкант с оркестра имеет привычку об это время перед сеансом упражняться на своем инструменте. У него флейта. Очень ужасно звонкий инструмент» (2: 583). Вечером к инженеру приходят гости, которые шумят, играют в преферанс и громко музицируют на пианино. Даже ночью несчастный Захаров не знает покоя. Как только гости расходятся, «музыкант с ресторана или с вечеринки заявляется. Кладет свой инструмент на комод. С женой ругается. Только он поругался и затих — инженер задвигался: почитал, видите ли, и спать ложится. Только он лег спать — Захарову вставать надо» (2: 583). Получается, что герои-интеллигенты, требующие от рабочего соблюдения тишины и уважения их личного пространства, совершенно не задумываются о том, что сами доставляют беспокойство и неудобство соседу. Таким образом Зощенко хотел показать читателю, что люди интеллигентных профессий не должны заботиться лишь об обустройстве своего быта, личном комфорте и удобстве (о чем как раз таки отчаянно мечтают булгаковские герои). Тем самым можно говорить о своеобразной полемике между Зощенко и Булгаковым и в то же время общем стремлении каждого отстоять интересы человека, вынужденного обитать в пространстве коммунальной квартиры.
Примечательно, что неустроенному быту коммунальной квартиры Булгаков противопоставляется жизнь «сообразительных людей». В рассказе «Четыре портрета», вошедшем в сборник «Трактат о жилище», Булгаков яркими штрихами, в которых проскальзывает нескрываемое восхищение и в то же время зависть повествователя, обрисовывает быт одной из таких семей: «стоящие дыбом крахмальные салфетки», блики весеннего солнца, играющие в расставленных рюмках, горничная, подающая к столу миску с горячим супом (2: 289).
Как видим, Булгаков признает право человека беспокоиться о расширении своего личного пространства. Как было показано выше, если в центре большинства рассказов первого находится герой-интеллигент, то Зощенко рассматривает те же ситуации сквозь призму сознания простого человека. Последний также исследует попытки обретения своими современниками индивидуальной жилплощади и, как и Булгаков, описывает многочисленные трудности, возникающие перед ними на этом пути. Так, герой рассказа Зощенко «Много ли человеку нужно» (1927) обладает небывалым упорством и силой характера, что позволяет рассказчику противопоставить его «паническим людишкам, проевшим свою храбрость и мужество в гражданскую войну» (2: 352). Последний убежден, что никакого жилищного «кризиса» в действительности нет, а надо лишь настойчиво добиваться цели: искать квартиру и обустраивать ее. Но несмотря на удачу — в квартирном бюро Иван Андреевич получил целых три комнаты — его усилия оказываются напрасными: приобретя жилплощадь, где может поселиться с семьей, он занял деньги, сделал ремонт, потратил много времени и сил, чтобы привести помещение в подходящий для проживания вид. Однако рассказ завершается тем, что Иван Андреевич лишается квартиры, поскольку должен ее продать, чтобы погасить долг по векселю. Тем не менее герой не унывает и с прежней энергией берется за новое предприятие. И хотя у читателя закрадывается мысль, что Иван Андреевич может точно также лишиться и следующей площади, думается, что решительность и предприимчивость этого персонажа ему импонируют.
Заглавие этого произведения — «Много ли человеку нужно?» — отсылает к рассказу Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно?» (1886), тема которого связана с башкирским преданием об объезде или обеге земли, кончающемся смертью, поскольку человек никогда не может остановить своих желаний. История крестьянина Пахома, по замыслу писателя, предстает как своеобразная метафора человеческой жизни, которая растрачивается на стяжательство материальных ценностей в ущерб духовным исканиям. Можно сделать вывод, что Зощенко также вступил в диалог с Толстым, который продолжил и позднее — в книгах «Возвращенная молодость» (1933) и «Перед восходом солнца» (1935–1943). В отличие от толстовской авторская позиция в зощенковском рассказе представляется неоднозначной. С одной стороны, художник согласен с мнением предшественника, что материальная сторона человеческого существования не должна подчинять духовную сферу. С другой, Зощенко был убежден, что человек имеет право на бытовое удобство и материальное благополучие, которые в новых исторических реалиях ассоциируются прежде всего с жилым пространством, где он не чувствует себя скованным, но в то же время готов с легкостью отказаться от возможного излишка в пользу того, кто нуждается в увеличении своей жилплощади.
Полемизируя с Толстым, Зощенко хотел показать читателю, что защищать личное пространство — это право любого человека, вне зависимости от того, принадлежит он к интеллигентной или рабочей среде. Булгаков также отстаивал мысль о неприкосновенности жилища, но в его произведениях речь шла в первую очередь о героях-интеллигентах, потерявших дом и вынужденных обитать в чуждом для себя пространстве коммунальной квартиры. В них писатель видел носителей традиционной культуры, без которой человек, по его убеждению, утрачивает важнейшие духовные качества и даже сам человеческий облик, что неизбежно ведет, по авторскому убеждению, к полной дегуманизации общества, а в конце концов его уничтожению.
Обитатели коммунальной квартиры в произведениях М. М. Зощенко и М. А. Булгакова 1920 годов
В произведениях Булгакова ушедшая в прошлое, стабильная, спокойная и отлаженная, дореволюционная жизнь рисуется как некий потерянный рай, в котором жили достойные, культурные и аристократичные люди. Настоящее же, новая эпоха, описывается художником сквозь призму мифа о противоборстве божественного и дьявольского начала. Например, Аннушка Пыляева, по вине которой сгорает дом, приобретает черты ведьмы: «лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было» (2: 249). Причем подобная деталь: черное, покрытое сажей лицо Аннушки, упоминается дважды, что подчеркивает значимость этого образа для Булгакова, для которого гибель дома № 13 приравнивается к Апокалипсису.
Образ Христи, напротив, соотносится с гармонизирующим началом, на что намекает его фамилия, ассоциирующаяся с Иисусом Христом. Подобно Спасителю Христи также совершает «чудо»: поддерживает тепло в доме посреди воцарившихся вокруг хаоса и разрухи. Время от времени в беседах со своим хозяином Эльпитом (чье имя также имеет библейскую семантику: первая часть восходит к слову El, которое означает одно из имен Бога на иврите, а вторая к слову pid, что на иврите означает «катастрофа») он жалуется на то, как устал от трудной миссии (что намекает на евангелький эпизод моления Христа о чаше в Гефсиманском саду). В конце концов, возникает ситуация, когда Эльпит больше не может ему помочь — он не может достать нефть для отопления дома. Оставленный без поддержки, Христи не в силах справиться с жильцами, которые уничтожают дом. Поэтому сцена пожара может быть рассмотрена как символ «конца света» (дом № 13 символизирует мир, отпавший от «хозяина» — Бога) и одновременно казнь самого Христи. На это указывают мотивы «разорванной одежды» и «синеватых щек»: «Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи», «Слезы медленно сползали по синеватым щекам»
В портретах жильцов коммунальных квартир Булгаков подчеркивает бесовское начало, внушая читателю впечатление, что те одержимы дьяволом и потому лишились рассудка. Булгаков рисует не так много портретов обитателей коммуналок, но использует яркие детали и подробности при создании их образов. Так, уже упоминалось, что один из персонажей «Самогонного озера» по имени Иван Гаврилович «багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (atropa belladonna)» (2: 322). Под влиянием алкоголя другие жильцы начинают бесноваться, подобно ведьмам на шабаше вступают в немыслимые пляски.
Если Булгаков осмысляет окружающую его реальность, опираясь на текст мифа, то Зощенко обращает внимание читателя в первую очередь на проблемы и тяготы, с которыми сталкиваются жильцы коммунальных квартир. Трудности реорганизации быта закономерно отражаются на внешности героев. Жители коммуналок в ряде зощенковских рассказов бледны, худы, что свидетельствует о наличии у них каких-либо болезней или увечий. В «Нервных людях» (1924) в центре повествования оказывается инвалид, лишившийся одной ноги: «безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности» (2: 188), поэтому соседи во время ссоры уговаривают его: «Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут» (2: 188). Однако инвалид Гаврилов вмешивается в возникший конфликт, и в результате в возникшей драке ему «последнюю башку чуть не оттяпали» (2: 186). Общественные катаклизмы первой четверти ХХ века, в том числе Гражданская война, как пишет автор, негативно повлияли на душевное равновесие большинства людей: стал «народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится» (2: 186). Тем не менее Зощенко «верит в идеал революции»[48], но с грустью отмечает, что «у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет» (2: 186).
При этом стоит отметить, что, как и Булгаковым, внешность большинства жильцов Зощенко подробно не описана, однако автор использует говорящие детали: главной характеристикой большинства их них оказываются «расшатанные нервы» (2: 186), поэтому можно сделать вывод, что проживание в коммуналке оказывает столь же негативное воздействие как на физическое, так и психологическое состояние, что и военные события или нестабильная политическая обстановка в стране.
В образе Ивана Савича в рассказе «Матренища» (1923) также встречаются характерные мотивы физической слабости, бледности, болезни: «А днем лежит ослабевший, как сукин сын, и ноги врозь» (1: 399); «Побелел Иван Савич» (1: 400); «И до вечера, знаете ли, лежал Иван Савич словно померший, дыхание у него даже прерывалось. А вечером стал одеваться. Поднялся с койки, покряхтел и вышел на улицу. И вышел страшный: нос тончайший, руки дугой и ноги еле земли касаются» (1: 400).
В рассказе «Четыре дня» (1926) Зощенко высмеивает сложности, возникающие у квартирантов при необходимости соблюдать элементарные правила личной гигиены. Даже утреннее умывание может стать проблемой в обстановке коммунальной квартиры. Мужчина не умывался четыре дня, лицо стало таким грязным, что со стороны главный герой стал казаться тяжело больным человеком.
Булгаков и Зощенко детально изучают интересы и нужды жильцов коммунальных квартир 1920 годов. Как уже было отмечено выше, если в центре внимания Зощенко оказывается простой человек с его материальными неурядицами, доставляющими ему значительное беспокойство, то Булгакову интереснее фигура интеллигента или другого человека, принадлежащего к прежней культурной среде. В условиях коммунального быта интеллигент сталкивается с проблемой сохранения самоидентификации: окружающие его люди придерживаются иных норм морали и поведения, по-другому смотрят на мир, и поэтому булгаковский герой вынужден постоянно предпринимать какие-то действия, которые помогли бы ему сохранить свою самоидентификацию, ведь перенаселенность коммунальной квартиры, по убеждению художника, обезличивает человека. В «Трактате о жилище» писатель следующим образом передает состояние героя-интеллигента в условиях отсутствия плотных и надежных границ между отдельными спальными помещениями: «Через десять минут начался кошмар: я перестал понимать, что я говорю, а что не я, и мой слух улавливал посторонние вещи. Китайцы, специалисты по части пыток, просто щенки. Такой штуки им ни в жизнь не изобрести» (…). И хотя физически рассказчик здоров, не приходится сомневаться, что его эмоционально-психическое состояние оставляет желать лучшего, что не может не сказаться и на его внешнем виде. Поэтому, например, другой персонаж того же «Трактата о жилище», Наталья Егоровна, сидя в валенках в промерзшей, плохо отапливаемой квартире, продолжает ежедневно играть вальсы Шопена: это позволяет ей не утратить свою личность и самоуважение и не уподобиться «коммунальному хаму». При этом рассказчик сообщает, что температура воздуха в помещении постоянно держалась на уровне нуля градусов: вверху воздух был более теплый, а внизу, ближе к полу, держалась минусовая температура. Однажды Наталья Егоровна бросила на пол мокрую мочалку и не могла ее поднять, поскольку мочалка примерзла к полу. В условиях коммунального быта 1920-х гг. жизнь интеллигента оказывается крайне тяжелой. Справиться с тяжестью жизни ему помогает уход в мир искусства, который дарит, пусть и недолго, состояние отрешенности от абсурдной реальности коммуналки.
Если Булгаков сосредотачивает внимание на душевном состоянии интеллигента, то Зощенко не оставляет без внимания внутренний мир простого человека. В упоминавшемся рассказе «Мерси» внешность главного героя передана короткими штрихами: «ножки гнутся, ручки трясутся и печенка от огорчения пухнет» (6 2: 584), что позволяет читателю сделать вывод: насильственное навязывание новой бытовой аксиологии (ценности коллективизма и повсеместного общежития) негативно сказывается на общем психофизиологическом состоянии «среднего» человека. Зощенко, как уже говорилось, отмечает «разрыв между масштабом революционных событий и консерватизмом человеческой психики»[49]. Представителю «масс» сложно адаптироваться к условиям коммунального быта: если формально такой человек и живет по принципам коллективизма, то фактически он никак не может привыкнуть к новым условиям и испытывает сильнейший дискомфорт, претерпевает душевные и физические страдания. Более того, подобное состояние неизбежно отрицательно сказывается и на профессиональной деятельности советского человека: «конечно, от всего этого работа страдает: ситчик, сами видите, другой раз какой редкий и неинтересный бывает — это, наверное, Захаров производит. И как ему другой произвести» (2: 584), если он постоянно пребывает в столь угнетенном душевном и физическом состоянии. И хотя в этом замечании слышна авторская ирония, тем не менее возникшая проблема не может не волновать Зощенко, ведь двигателем всех общественных, производственных и культурных преобразований, по убеждению художника, выступает именно человек.
Жизнь в коммунальной квартире обнажает в рассказах Булгакова и Зощенко ряд проблем, касающихся сферы межличностного взаимодействия. Обитатели коммуналок в «Самогонном озере» неспособны посмотреть на мир глазами другого человека и совершенно не желают его услышать, участвовать в продуктивном диалоге. Споры между рассказчиком-интеллигентом и соседями сводятся к обмену привычными заготовленными репликами. Лишь однажды, в силу экстраординарности ситуации, причиной которой стала неразбериха из-за петуха, соседи отреагировали на действия главного героя иначе: «Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь „„неизвестно какими делами“, и что я вообще, совершенно напрасно затесался туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому это ее Шурка. И пусть я заведу себе „своих Шурок“ И ем их с кашей. — „Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд и вы будете сидеть год за истязание ребенка“, — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст „заявку“ в правление, чтобы меня выселили. „Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные“. Словом, на сей раз ничего не было» (2: 321). Таким образом Булгаков в отличие от Зощенко не верил в возможность взаимопонимания между интеллигентом и новым хозяином жизни — пролетарием — в силу культурной глухоты последнего. Единственным же условием их мирного сосуществования, как показал писатель, может быть лишь выходящее из ряда вон событие, которое внезапно нарушает привычный ритм существования каждого из них.
Если Булгаков большое внимание уделяет проблеме разрушения культурной традиции прошлого, проблеме сохранения памяти о ней, то для Зощенко на первый план выходит осмысление реалий современной действительности: с этим связано проникновение в его рассказы и фельетоны сказовых интонаций, языка необразованных городских жителей, не имеющих устоявшихся культурных норм и стереотипов поведения. С. С. Аверинцев отметил, что стиль и манера речи могут в значительной мере передавать принадлежность человека к какому-либо культурному типу[50]. Герои рассказов и фельетонов Зощенко 1920 годов — обезличенные, лишенные привычных поведенческих ориентиров люди, вырванные из привычной им среды и еще не адаптировавшиеся к условиям новой советской действительности. Они зачастую жестоки и бесчувственны, в результате чего совершают безнравственные поступки. И это неизбежно, по мнению ученого, отражается на их речевых портретах — емком авторском приеме, позволяющем избавиться от дополнительных сюжетных ходов или детально прописанных портретов.
Более подробную характеристику языковых особенностей зощенковских персонажей дает Л. А. Исаева: «На фонетическом уровне в речи персонажей выделяются замена одних звуков другими, изменение места ударения, чередования согласных и др. Это явление — одна из отличительных черт речевого портрета персонажа М. Зощенко»[51]. Кроме того, его «речь полна вульгарной, просторечной лексики, иностранных слов, диалектизмов, искажением грамматических и фразеологических форм; разнообразием синтаксических конструкций»[52], часто встречается «столкновение нескольких стилей»[53], которое Аверинцев, в свою очередь, назвал гетерогенным стилем, то есть текстом, в который автором сознательно и целенаправленно вплетаются контрастные по стилю речевые обороты[54].
Думается, подобная необычность языка жильцов коммунальных квартир в произведениях Зощенко 1920-х связана с тем, что в эти годы в социальной, а значит, и духовной сферах жизни общества произошли значительные сдвиги. Изменились самые привычные, казавшиеся неизменными устои, в том числе и такие, как роль женщины в семье и обществе. Эта проблема также оказалась в поле зрения Зощенко и Булгакова. В упоминавшемся рассказе «Матренища» Зощенко показывал, как женщина, столкнувшаяся с новым бытом, теряет такие традиционно «женственные» черты, как нежность, ласка и терпимость. При этом, чтобы выжить в новых условиях, она активно перенимает такие особенности поведения, которые традиционно определяются как «мужские»: ярко выраженную энергичность, твердость и рассудочность. Оценка Зощенко подобных изменений женской роли тем не менее не является негативной: он лишь констатирует, что любой человек, а том числе и женщина, в условиях принципиально изменившихся условий повседневного существования неизбежно меняет привычную стратегию поведения. Матренища описывается как «ужасно вредная бабища. Только что не кусалась. А может, и кусалась. Пес ее разберет. Там, где ссора какая, где по роже друг друга лупят — там и Матренища. Как рыба она в воде ныряет, как кабан в грязи крутится. Кого подначивает, а кого и сама бьет» (1: 397). Но при этом какой бы злой и жестокой ни была жена главного героя, она, не прибегая ни к каким лекарствам, заботе или уходу, тем не менее буквально не дает мужу умереть, то есть, по сути, выполняет главную женскую функцию — хранительницы семьи.
В рассказе «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» Булгаков противопоставляет традиционное представление о женственности, воплощением которого становится описание каменной девушки у фонтана, располагавшегося во дворе дома: «зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы» (2: 242). Новая обитательница дома № 13 Аннушка Пыляева не имеет с ним ничего общего и отталкивает повествователя, а с ним и читателя.
В 1920-е годы кардинальным образом изменилось не только положение женщины в социуме, но и отношение советских обывателей к религиозным ценностям и традициям. Зощенко стремится разоблачить формальную сторону религии, ее оболочку. В рассказе «Пасхальный случай» (1925) дьякон раздавил сапогом кулич рассказчика, что должно свидетельствовать об утрате служителем церкви представления о сути того института и связанных с ним предметов и обрядов, к которому он принадлежит. Это произошло потому, что основной целью церкви, по убеждению писателя, стало не духовное окормление паствы, а получение от прихожан пожертвований. Вот почему в конце рассказа главный герой заявляет, что после этого случая не вовсе перестал ходить в церковь, а «куличи жрет такие, несвяченые. Вкус тот же» (2: 71). Зощенко показывает, как кулич перестал быть символом воскрешения Христа, воспринимается его современниками в первую очередь как сдобная булка, которую принято употреблять в пищу в определенный день лишь в силу традиции. Сходная тема звучит и в рассказе «Теперь-то ясно» (1925), где сакральный смысл утратили масленичные блины, превратившись в сознании обывателей во всего лишь вкусное праздничное блюдо. Однако жильцы долго не могут решить, разрешено ли употребление блинов советской властью, или они по-прежнему «религиозный предрассудок» (2: 40). Разрешение управдома развеивает их сомнения — печь и есть блины можно, но в то же время факт обращения жильцов к последнему свидетельствует, что смысл древнего народного праздника перестал быть понятен советским людям, поэтому, возможно, должен вовсе исчезнуть в новой советской действительности.
При этом вера как таковая не разоблачается в произведениях Зощенко, религиозное мировосприятие частного человека остается для него в неприкосновенным, тогда как в рассказе Булгакова «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» автор демонстрирует, что в условиях житейского хаоса 1920-годов вера в существование оберегающего и защищающего Бога подверглась тотальной деструкции. Поэтому в булгаковских художественных текстах 1920 годов подспудно, а в произведениях 30-х уже отчетливо звучит мысль, что мир из-под власти Бога полностью перешел в руки Дьявола, которая позволила исследователям охарактеризовать творчество художника, как своего рода «Евангелие от Булгакова»[55].
Рассказы и фельетоны Зощенко 1920-х указывают на экспансию вещного и ритуализированного в восприятии религиозной идеи, но подобная трансформация не рассматривалась им как катастрофа или причина для искоренения религиозного мировосприятия. Показательно, что схожих с Зощенко взглядов придерживались и некоторые партийные лидеры. Так, А. А. Богданов, теоретик и идеолог Пролеткульта, в статье «Возможно ли пролетарское искусство?» (1924) писал, что нельзя позволить пролетариату видеть в религии «только суеверие и обман», надо дать массам возможность понять сущностную основу религии как таковой, вне ее формальных проявлений и делений на различные верования[56]. По мысли Богданова, именно в этом случае представитель пролетариата сможет правильным образом воспринять наследие предшествующей культуры и постепенно создать на его основе собственную культуру. Богданов был не первым, кто высказывал подобное мнение. Схожие мысли прозвучали за полвека до него из противоположного — консервативного — писательского лагеря. Н. С. Лесков в 1875 году в рассказе «На краю света» выступил со схожими размышлениями (не случайно рассказ был напечатан в ультраправом «Гражданине» Мещерского): в любой религии можно выделить формальное начало и поклоняться ему, в результате все иное, непохожее, отличное будет восприниматься как «неправильное» и «недостойное». Но есть и другой подход к восприятию религии и веры: освоение ее сущностной основы. Именно второй путь способствует единению людей, «распечатлению» представителей самых разных культур, был убежден литератор XIX века.
Подводя итог, еще раз отметим, что при сопоставлении произведений Зощенко и Булгакова 1920-х о коммунальной квартире обнаруживается ряд мотивно-образных перекличек, которые позволяют говорить о своеобразном диалоге между художниками, несмотря на разницу в их политических убеждениях, что обусловлено принадлежностью обоих писателей к предшествующей дореволюционной культуре и сложностях, испытываемых каждым при адаптации к новой советской реальности.
М. М. Зощенко: страх перед экспансией «вещного»
В рассказах и фельетонах 1920 годов Зощенко использовал иронию и сатиру, чтобы снять с героев маски и раскрыть «все недостатки человека», указать на все, что ему «мешает развиваться в лучшую сторону»[57]. На наш взгляд, Зощенко был убежден в том, что его герои, советские обыватели, способны поменяться к лучшему. В этой связи стоит вспомнить замечание В. Н. Топорова, который в статье «Вещь в антропоцентрической перспективе (Апология Плюшкина)» писал, что в зависимости от творческого задания писатель-сатирик может выбирать одну из двух стратегий: или он верит, что за «маской» и «личиной» есть «живая душа», или, подобно Гоголю, видит вокруг себя только «мертвые души»[58]. Зощенко, как представляется, избрал первый путь, что подтверждается проведенным в предыдущей главе анализом его художественных текстов.
Под «вещью» Топоров понимает совокупность объектов, цель которых — принесение каждодневной пользы. Базовые биологические потребности могут быть удовлетворены разными способами: например, спать человек может не только на кровати (вещь), но и на постеленной на пол газете (отсутствие вещи). Однако человек в большинстве случаев стремится выбрать первый способ, поскольку вещи обеспечивают ему комфорт и благополучие. При этом само обладание некой вещью не приносит пользы ни в масштабах вечности, ни в масштабах государства. Напротив, вещь полезна исключительно для отдельного человека или ограниченной группы лиц[59].
Исследователь отметил, что у любой вещи есть две особенности: первая связана с ее непосредственной утилитарной функцией, которая, в свою очередь, порождает вторую — возможность вызывать у человека чувство особой внутренней теплоты. В его основе лежит своеобразное душевное родство человека и вещи. Такое ощущение он испытывает, например, когда возвращается в родной дом, где все предметы дороги сердцу, навевают воспоминания о прошлом, своих владельцах, тех счастливых или грустных часах, когда этими предметами пользовались[60].
При этом, подчеркивает ученый, человек не должен позволять «вещному миру» брать над собой верх, ведь именно он во многом служит источником возникновения в людской душе эгоистических интересов. Отречение от вещного мира, противопоставление себя ему человеком, свидетельствует о том, что он поднялся на определенную высоту в своем развитии, в любви к Богу, по выражению Топорова. Но в то же время это состояние не должно быть полным и абсолютным, так как человек существует в материальном мире и постоянно окружен вещами[61]. Тем не менее Топоров указывает, что есть более высокий этап любви к вещи — то есть умение увидеть ее над-утилитарную сущность и, как следствие, быть способным почувствовать необходимость и законность существования мира вещей, его духовную и душевную составляющую: «Собственно, сама возможность такого взгляда и тем более интимной беседы с вещью (хотя бы монологической, но предполагающей и то, что вещь могла бы ответить) и образует существо этого возвращения долга, акта, который многое меняет и в самом человеке, и — отныне — даже в мире вещей, как бы почувствовавших к себе внимание, участие, сочувствие, жалость того, кому до сих пор они умели только преданно служить, не надеясь на отзыв-отклик человека и не зная, как им самим, вещам, послать свое сообщение человеку»[62].
Возвращаясь к фигуре Зощенко, можем предположить, что избранная им художническая стратегия была обусловлена ярко выраженным подсознательным страхом перед вещным миром, порождающим собственнические интересы в душе человека. Это предопределило его сатирически-морализаторскую позицию борца со стяжательством, жульничеством и потребительством, со всеми теми, чьи усилия направлены лишь на поиск личной выгоды.
Данная проблема легла в основу исследования А. К. Жолковского, который в книге «Поэтика недоверия» предпринял подробный анализ этой особенности зощенковской личности. Причем исследователь сразу же оговаривает, что в работе вещному миру и коммунальному быту, запечатленному Зощенко в своих рассказах, он не стремился уделить большого внимания и сделал акцент на извечной внутренней драме человеческого состояния, которая на протяжении всей жизни мучительно занимала автора[63]. Поэтому Жолковский характеризует писательскую фигуру Зощенко следующим образом: «не столько сатирик-бытописатель советских нравов, сколько поэт страха, недоверия и амбивалентной любви к порядку» (28).
Однако сложно согласиться с утверждением Жолковского, что Зощенко видел в представителе «массы» 1920-х носителя исключительно «вещного» и «предметного» начала и тем более не отдавал себе отчета в том, каким ему видится «человек массы» и чем обусловлен подобный взгляд на него. Жолковский анализирует творчество Зощенко, основываясь на повести «Перед восходом солнца» (1935–1943), где писатель, действительно, размышлял об иррациональности, бесконтрольности своего страха перед теми или иными предметами и явлениями действительности и о том, что ему нередко не удавалось понять, что в данный конкретный момент он действует именно под влиянием фобии.
В этой связи у читателя может сложиться впечатление, что Жолковский не разделяет понятия фобии и паранойи. Состояние Зощенко исследователь обозначает именно словом «паранойя», которое встречается в работе не однажды: «…наложится в дальнейшем на уже готовую паранойю (здесь и далее в цитируемых фрагментах выделено нами. — А.К.) и тем пышнее расцветет в зощенковских рассказах» (30); «патологически недоверчивый взгляд на мир» (27); «параноическая тема недоверия» (с. 28) в произведениях Зощенко; (30); «…амбивалентность позиции автора, которому, конечно, не может не быть близка параноическая настроенность этого отрицательного героя» (77).
Согласно определению «Психиатрического энциклопедического словаря», «Паранойя (от греч. para и noos, nus — ум, разум). Букв. вне разума, противоразум, т. е. сумасшествие. Сложный психоз»[64], расстройство мышления, в результате которого у человека могут возникнуть бредовые идеи преследования, реформаторства и др., при сохранении «эмоциональности и отсутствии галлюцинаций, формальных нарушений мышления и деградации личности»[65]. Фобия же, напротив, не предполагает расстройства мышления. Это психическое расстройство, при котором человек испытывает мучительный, почти непреодолимый страх перед достаточно безопасными объектами или ситуациями. Поэтому замысел книги Зощенко «Перед восходом солнца» заключается, как нам представляется, в том, что автор пытался излечиться от своего страха относительно безопасных объектов и явлений, которые связаны с «миром вещей» — еда, рука ближнего, эмоциональная близость с любимой женщиной и т. п. Этот иррациональный страх лишал Зощенко возможности быть счастливым человеком, вот почему он не раз заявлял, что многие по-настоящему талантливые писатели были несчастны, хотя в действительности гений и страдание не обязательно должны идти рука об руку. Можно предположить, что, по выражению Топорова, Зощенко ощутил то «душевное тепло», которое идет от вещи.
Жолковский не ставит писателю психиатрический диагноз, но использует именно понятие паранойи, так и не предложив в своей книге четкого объяснения, что понимает под этим словом. Поэтому такое действие, как запирание дверей, в символическом смысле воплощающее отстаивание права на частное пространство, тоже интерпретируется Жолковским как признак паранойи: «в рассказах часто фигурируют ситуации параноического (выделено нами. — А.К.) запирания дверей и принятия других оборонительных мер против воров» (180). Однако, по нашему убеждению, корректнее было бы говорить именно о фобии, так как человек с фобией имеет адекватную картину мира и всего лишь стремится избегать встречи с объектами своего страха. Параноик же воспринимает мир искаженно, интерпретирует все события внелогично, в призме своих бредовых идей. Данные характеристики совершенно не применимы к Зощенко, что доказывает значительное число свидетельств и воспоминаний его современников.
Но Жолковский предполагает, что в рассказах Зощенко 1920-х мы должны видеть не реальный быт советских коммуналок, а проекцию травмированного зощенковского сознания на вымышленне ситуации и персонажей: «Как это ни парадоксально, поэт, наследник Серебряного века, Ходасевич исходит из социально-материалистического воззрения, что искусство отражает быт („вещи“), тогда как предполагаемый „советский сатирик“ Зощенко, напротив, поглощен изображением своих собственных страхов („душевных состояний“) (30). „Зощенковские герои, как и гоголевские, — „не портреты с ничтожных людей“, и техника их изготовления, как мы видели, в общем, та же, что у Гоголя: преследование собственной дряни в разжалованном виде дряни чужой — мещанской, нэпманской, советской и т. п. Проблема состоит поэтому в том, чтобы увидеть смеховой мир Зощенко как систематическую проекцию „душевного города“ его автора» (17).
В работе Жолковского упомившаяся многими знакомыми художника нелюбовь Зощенко к роскоши и излишествам выводится из его амбивалентного отношения к матери и не имеет под собой никаких иных, по убеждению исследователя, оснований. Предубеждение Зощенко по отношению к властным лицам любого уровня выросло, по его мысли, из нездорового отношения к фигуре отца: «Рассказы Зощенко изобилуют подобными носителями власти — банщиками, кондукторами, управдомами, милиционерами, начальниками станций и т. п., а изображение отца в „Перед восходом солнца“ и в рассказах о Леле и Миньке в качестве авторитарной высшей инстанции не оставляет сомнений в психологической подоплеке (выделено нами. — А.К.) этого мотива. Представитель порядка вершит свой суд публично, часто при поддержке толпы, сопровождая его нравоучениями и ссылками на табу, нарушителем которых оказывается герой, претендующий на женщину и вообще пытающийся выделиться из стада»». (с. 21-22). Таким образом, по мнению литературоведа, своеобразная художническая позиция Зощенко — прямое следствие его психического нездоровья: «В сюжетном плане глубоко травмированного автора представляет его жалкий герой, не справляющийся с жизнью, тянущийся к еде, женщинам, деньгам, славе и т. п. и грубо отгоняемый или пугливо шарахающийся от них… Подобная лабильная психика… составляет подоплеку соответствующей культурной позиции» (22-23). Литературовед полагает, что вначале возник страх, затем — социальная сатира.
Несомненно, метод литературоведческого психоанализа при осмыслении наследия Зощенко плодотворен, поскольку тесно связан с вопросом психологии творчества, влиянии на тематический пласт, образный строй и другие элементы произведений особенностей авторского темперамента и мировосприятия. Но представляется, что исследователь не вполне справедливо игнорирует рассуждения самого писателя, которыми открывается повесть «Перед восходом солнца».
Сатирик открыто заявляет в предисловии: «Это был психоанализ? Фрейд? — Вовсе нет. Это был Павлов»[66]. Тем не менее нельзя не отметить, что фактически писатель все же придерживается пусть и не осознанно, именно фрейдистского подхода: описывает уровни психики с опорой на предложенную Фрейдом структурную модель психики, говорит о конфликте «Оно», «Я» и «Сверх-Я», а содержание значительной части глав повести сосредоточено на анализе взаимоотношений в треугольнике «мать — сын — большой мир», а также включает ряд эпизодов знакомства Зощенко с противоположным полом, окончившихся неудачей в силу как раз таки внутреннего конфликта, спровоцированного отношениями с матерью. Нежелание Зощенко упоминать имя Фрейда отчасти можно объяснить политическими причинами, но в то же время художника отталкивала мысль австрийского психоаналитика о губительности высокого уровня развития сознания, о том, что невозможно быть великим художником, ученым, философом, оставаясь счастливой, цельной личностью[67]. По мнению Зощенко, Фрейд утверждал: чтобы стать счастливым, необходимо «опроститься», только так можно избавиться от болезненного конфликта между высокоразвитым сознанием и пугающим миром темных инстинктов[68]. Споря в этом отношении с учением Фрейда, писатель в то же время вступал и в спор и с Л. Н. Толстым и его идеей «опрощения». В конце повести «Перед восходом солнца» Зощенко приводит цитату из «Исповеди», где автор повествует о пережитых душевных муках и страданиях, от которых он не мог долгое время избавиться. Зощенко отвергает выводы Толстого аргументом, что его учение о том, как прийти к счастью, — это, по сути, религия, то есть набор принимаемых на веру утверждений. А мысль самого Зощенко — напротив, развивается в строго научном русле, и подкрепляется ссылками на труды академика Павлова, а главное, опирается на провозглашаемые в обществе революционные идеалы.
Жолковский же игнорирует зощенковскую «веру в идеал революции»[69], парадоксальным образом сочетавшуюся с недоверием к конкретным способам его воплощения, осуществляемым советской властью. Исследователь указывает на «двусмысленность позиции писателя по отношению к советской власти»: тот «и боится ее, и льнет к ней, и рядится в непроницаемую сказовую маску». (с. 28). Но причину подобного поведения художника Жолковский видит в патологическом страхе, вызванном, по его убеждению, многочисленными душевными травмами последнего: «Зощенко — писатель, с детства травмированный домашней обстановкой и окружающим миром, а затем напуганный хаосом бескультурной революционной и советской стихии и потому предпочитающий, хотя и с амбивалентными гримасами, внешний порядок, пусть несправедливый, но надежный, и внутренний душевный покой, пусть достигаемый ценой железной самодисциплины, крепкой тары, неподвижного лица, несмаргиваемого монокля, уютного — с иллюминатором — гроба» (187). Таким образом, с точки зрения литературоведа, Зощенко — психически больной человек, как и многие другие его художники-современники (26-27).
Идеал исследователя противоположен условно понимаемому и снабженному многочисленными негативными коннотациями «недоверию», которое он, как тенденцию, разоблачает на примере творчества Зощенко — и представляет собой, не менее условное на наш взгляд, «чувство реальности»: выйти из «символического футляра» писателю будто бы мешало «рутинное приятие ложных, иногда „благородных“ и „разумных“, и всегда „обоснованных“, заранее предопределенных и вычисленных ценностей и неумение довериться живому чувству реальности» (182-183).
При этом сам Зощенко также признавал, что самоотверженное служение к писательскому труду способно вызвать у автора своего рода «душевное отравление»[70]. Описывая в сатирических красках недостатки и слабости представителей широких массы советского населения, Зощенко все более грустнел и мрачнел. Поэтому, например, коллега художника по писательскому цеху и один из «Серапионовых братьев» К. А. Федин в воспоминаниях не отрицал болезненного душевного состояния Зощенко, но, в отличие от современного исследователя, видел причину не в его детских психологических травмах, а в особой личной и общественной позиции, которую сатирик отстаивал в своих произведениях: «Зощенко был болен, и — слишком очевидно — „юмористика“ способствовала его заболеванию. Болезнь и последующее исцеление из биографического факта сделались основной темой писателя, и в ней нам привелось лучше всего узнать несмеющегося, серьезного Зощенко»[71]. И другой «Серапион», Слонимский, вспоминал: «Однажды в таком состоянии „отравления“ он сказал мне: „Где-то я читал, что Фонвизин, уже полупараличный, катался в тележке перед университетом и кричал студентам: „Вот до чего доводит литература! Никогда не будьте писателями! Никогда не занимайтесь литературой!“ Надо спросить Чуковского, верно ли это”»[72].
Жолковский отмечает у Зощенко «патологически недоверчивый взгляд на мир» (27), проводит параллели с «подпольным человеком» Достоевского и чеховским «человеком в футляре» и предлагает смотреть на писателя как « „лирика“, пишущего от имени Беликова», «инфантильного, так и не достигшего зрелости, „маленького человека“» (180).
В «Заключении» своей книги исследователь призывает воспринимать его труд как материал для пересмотра устоявшихся литературных репутаций и других советских классиков. Ни в коей мере не умаляя ценности сделанных ученым выводов, не можем не отметить, что они напоминают попытку создать некую модель «машинного перевода» текста с языка художественного произведения на язык психоаналитической критики и литературоведения, «сконструировать совокупность понятий и правил настолько строгих, что ими можно оперировать применительно к любому тексту или смыслу чисто формально»[73]. В результате у читателя «Поэтики недоверия» складывается отчетливое, хотя, возможно, не соответствующее действительности представление, что, критикуя Зощенко за недоверие миру и мизантропию, исследователь скорее стремился опровергнуть идеалы советской эпохи, которые тот озвучивал в своем творчестве. Представляется, что Жолковский смотрит на писательскую фигуру Зощенко с рационализаторских позиций, а потому не видит — за писательской слабостью и травмированностью последнего — широты и глубины человеческой личности.
На наш взгляд, чтобы проникнуться столь сильным духом неприятия вещного мира, желания облагородить и возвысить его, вырвать вещь из узкого круга эгоистических интересов — необходимо обладать особым психофизиологическим складом. Нужно иметь особую историю взросления и формирования собственной личности и особую историю своего рода. Множество жизненных трудностей, болезненных и тяжелых событий формируют характер, систему ценностей и жизненных приоритетов. Точно так же, как профессиональный спортсмен, испытывая серьезные нагрузки на определенные группы мышц, может нанести повреждения отдельным органам и системам организма, — так и писатель, усиленно развивая одни области своей души, может одновременно начать испытывать трудности с другими «подотделами» своего внутреннего мира: утратить цельность души и способность чувствовать себя по-настоящему счастливым.
М. А. Булгаков. Отрицание материальной реальности
М. Элиаде в книге «Миф о вечном возвращении» писал, что большинство людей, сознательно или бессознательно, сталкиваются с необходимостью каким-то образом преодолевать «ужас перед историей»[74]: объяснять для себя причины и цель претерпеваемых в жизни страданий, ощущать себя причастным к некой надвременной реальности, выстроить свою жизнь таким образом, чтобы она оказалась вписанной в вечный, непреходящий пласт истории.
При этом ученый полагал, что у человека, если он не лукавит перед собой, есть всего два способа преодоления этого «ужаса»: подчинить свою жизнь некому широко понимаемому «ритуалу» или поверить в «иудео-христианского Бога»[75]. Для культуры архетипов и повторения вера в Бога как такового не является обязательной.
Элиаде рассуждает о том, что «безнаказанно выйти из культуры архетипов и повторения можно лишь при условии принятия философии, не исключающей существование Бога. Это, кстати говоря, подтвердилось, когда за пределы культуры архетипов и повторения первым вырвалось иудео-христианство, которое ввело в религиозный опыт новую категорию — веру„[76].
Складывается впечатление, что для Булгакова было более характерно магическое мышление, а вера как таковая отсутствовала. Вот что говорит об этом его жена Т. Н. Лаппа:
«Л. П. А как в смысле веры? Насколько я помню, он не был верующим?
Т. К. Нет, он верил. Только не показывал этого.
Л. П. Молился?
Т. К. Нет, никогда не молился, в церковь не ходил, крестика у него не было, но верил. Суеверный был. Самой страшной считал клятву смертью. Считал, что это… за нарушение этой клятвы будет обязательно наказание. Чуть что — «Клянись смертью!”»[77].
Очевидно, что при ответе на вопрос интервьюера Татьяна Николаевна уравнивает веру и суеверие, молитву и магическую клятву:
Несмотря на отсутствие глубокой веры и сильно развитое магическое мышление, в произведениях Булгакова встречается большое количество христианских архетипов. Элиаде отметил парадоксальную черту мифологизированного сознания: жить в реальности — значить жить согласно модели, архетипу. «Истинно реальными» в сознании такого человека «являются только архетипы»[78]. Современные ему события писатель художественно осмыслял и оценивал в рамках матрицы Бог-Отец — Бог-Сын —Пилат. «Для многих других произведений Булгакова типичен образ центрального героя, осмысляемый, через посредство евангельских ассоциаций, как образ Сына — одинокого, оставшегося без поддержки в окружающем его враждебном хаосе»[79]. В понимании писателя, главный герой «Записок юного врача», выполняющий функцию Христа, обязан ежечасно совершать подвиг самопожертвования, буквально воскрешая умерших людей. Б. М. Гаспаров обратил внимание, что отец девушки, пострадавшей в результате несчастного случая, обращается герою-медику словно к божеству[80]. Спасение девушки приравнивается ученым к воскрешению Лазаря: вначале девушка кажется мертвой, что многократно подчеркивается разными художественными деталями, а в конце герой совершает чудо. Гаспаров отметил, что названия глав «Записок юного врача» имеют характерные названия: «Крещение поворотом», «Тьма египетская»[81]. Кроме того, литературовед полагает, что «характерная черта евангельской темы у Булгакова — слабость центрального героя и ощущение им своей покинутости и одиночества»[82]. Е. А. Яблоков определил данное состояние несколько иначе — «комплекс вины за слабость и „негероизм”“[83]. В высказывании Гаспарова доминирующим оказывается жертвенное, страдательное положение главного героя, в словах Яблокова подчеркивается авторская мысль о вине центрального персонажа.
Столкнувшись с «ужасом истории», главный герой вписывает себя в контекст христианской мифологии — по сути, берет на себя функцию Христа. Однако он не имеет его силы и в результате испытывает двойную вину за свою слабость: во-первых, он не смог помочь конкретному человеку. Во-вторых, не смог вписать себя в контекст вечности, не стал подлинным воплощением образа Христа, вобрал в себя и черты Пилата. В этой связи Гаспаров заметил, что герой всех ранних произведений Булгакова — это своеобразный психологический автопортрет писателя, который одновременно ассоциирует себя и с Христом, и с Пилатом.
В поздних произведениях художника роль Пилата не столь заметна при первом прочтении, но в то же время не менее важна. «Так, в повести „Роковые яйца“ (1926) профессор Персиков отдает изобретенный им аппарат Рокку со словами: „Я умываю руки”“[84]. Последствия подобной слабости героя становятся для окружающих катастрофическими, но их жертвой становится оказывается и сам Персиков — жертвенное и страдательное положение героя позволяет Булгакову вызвать у читателя ассоциацию его образа и с фигурой Христа. Персиков „совершает чудо —открывает „луч жизни“, но при этом отрекается от своего творения, позволяет ему погибнуть и в конце концов гибнет сам. Аналогичная схема играет большую роль и в двух главных произведениях позднего Булгакова — „Театральном романе“ и „Мастере и Маргарите”“[85].
К. Гирц отметил характерную черту всех религиозных мифологий: «вести себя иначе — значит действовать вопреки законам вселенной»[86]. Верность религиозному ритуалу полностью меняет картину мира человека, его представление о здравомыслии. «Настроения и мотивации, порожденные религиозной практикой, сами начинают казаться в высшей степени практическими, единственно разумными с точки зрения того, какова в „действительности“ окружающая реальность»[87]. Религиозно-ритуальные представления становятся шаблоном восприятия мира. «Они не просто объясняют социальные и психологические процессы с точки зрения космоса — в этом случае они были бы философскими, а не религиозными, — но формируют их»[88].
Действительно, если центральный герой — Христос, следовательно, он обязан быть так же одинок и противопоставлен по своей созидательной силе остальному миру. У Христа не может быть равного ему по силе, как и у евангельского Христа были лишь ученики. Ученики, в сознании Булгакова, не всегда в состоянии понять своего учителя, они слабее его, что усиливает одиночество и покинутость центрального героя.
Но одновременно центральный герой — «маленький человек»: он не обладает всемогуществом, нечасто отличается силой характера, испытывает недостаток в различных ресурсах. Слабость делает его «предателем» неких высших ценностей и идеалов, а невозможность придерживаться «идеала» приводит к гибели — «неидеальность», неполное соответствие образу Христа всегда, по мысли Булгакова, наказывается.
В версии писателя сам Пилат также приобретает черты Христа — ведь предательство приводит его к гибели, превращает в жертву. Как отметил Гаспаров, «такое переосмысление канонического евангельского повествования придает версии, разрабатываемой Булгаковым (так же как и его героем — Мастером), характер апокрифа. Не случайно глава, в которой Воланд начинал рассказывать роман Мастера, в черновых вариантах имела заглавие „Евангелие от Дьявола“ и „Евангелие от Воланда”“[89].
Видя, что его герой не вполне вписывается в конкретный положительный архетип христианской мифологии, Булгаков накладывает сверху другую, не менее важную, европейскую культурную парадигму — фаустианскую.
Центральный герой Булгакова, «подобно Фаусту, вступает в сделку с сатаной в обмен на творческую реализацию (и связанное с ней бессмертие)». Гаспаров указал на фаустианские черты в профессоре Персикове («Роковые яйца») и Преображенском («Собачье сердце»). Это творческие люди, отчужденные и изолированные от основного мира, «они воздвигают барьер между собой и этой презираемой и как бы не замечаемой ими реальностью»[90].
«Один из булгаковских „аргументов“ для доказательства абсурдности вооруженного противостояния — акцентирование идеи равенства людей перед лицом Бога. Разумеется, необходимо при этом отличать отношение к Богу от отношения к церкви: уже в „Белой гвардии“ выражено резкое неприятие религии и религиозности в „традиционном варианте”“[91]. Педалирование идеи равенства между людьми в сознании Булгакова гармонично сочетается с невозможностью любому живому существу, имеющему человеческие черты, придать статус человека. Е. А. Яблоков пишет отметил: „В повести „Собачье сердце“ оказывается размытым значение слова „человек“; неясно, какой набор „атрибутов“ достаточен, чтобы назвать живое существо человеком: одежда, имя, жилплощадь, способность говорить и т. п. — список может быть продолжен, но „арифметическая“ сумма все-таки не дает искомого результата»[92].
Отсутствие веры в Бога и любви к окружающим его людям приводят к тому, что в произведениях Булгакова мир предстает как источник зла, хаоса и разрушительных сил. Появляется апокалиптическая тематика. Гаспаров отмечает «одно свойство художественного мира Булгакова, сыгравшее важную роль в развитии апокалиптической циклической схемы: своеобразное остраненное видение повседневной жизни, и прежде всего советского быта, как странного мира, в котором на каждом шагу, в самых обыденных событиях и выражениях, проглядывают чудеса, намекающие на присутствие „нечистой силы“, а следовательно, и на близость очередной апокалиптической катастрофы»[93].
Советская реальностью Булгаковым полностью отрицается. По мысли писателя, современный ему мир должен быть «заслуженно» уничтожен. На наш взгляд, в условиях информационно-психологической войны с Западом подобное утверждение абсолютно недопустимо. Можно предположить, что воспевание Булгакова стало особенно популярно в связи с тем, что на российскую систему образования и культурную сферу в целом значительное влияние оказывают США. Западная пропаганда нацелена на очернение нашей страны и нашего прошлого.
В заключение хочется привести слова известных исследователей, которые подтверждают, что позиция Булгакова не соответствует реальности. «То, что мы считали на протяжении всего романа „современной Москвой“, выступает в эпилоге как легенда, притча, миф», [94] — писал выдающийся русский литературовед Б. М. Гаспаров об одном из произведений Булгакова. Действительно, анализируя особенности восприятия мира через призму архетипов и магических ритуалов, антрополог и социолог К. Гирц отмечал: «в ритуале мир реальный и мир воображаемый, будучи сплавлены посредством единого комплекса символических форм, оказываются одним и тем же миром, в результате чего происходит <…> характерная трансформация чувства реальности»[95].
[1] Булгаков М.А. Записки покойника (Театральный роман) // Он же. Собр. соч.: В 5 т. Т. 4. М.: Худож. лит., 1990. С. 403.
[2] Паршин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. [Режим доступа]: https://www.rulit.me/author/parshin-leonid-konstantinovich/chertovshchina-v-amerikanskom-posolstve-v-moskve-ili-13-zagadok-mihaila-bulgakova-download-free-176293.html (дата обращения: 01.11.2020).
[3] Булгаков М.А. — Булгаковой-Воскресенской В. М., 17 ноября 1921 г. // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. Т. 35. 1976. № 35. [Режим доступа]: http://bulgakov.lit-info.ru/bulgakov/pisma/letter-15.htm (дата обращения: 07.03.2021).
[4] Булгаков М.А. Михаил Булгаков: Под пятой. Мой дневник. М.: Правда, 1990. [Режим доступа]: http://lib.ru/BULGAKOW/dnewnik.txt (дата обращения: 07.03.2021).
[5] Там же.
[6] См. подробнее: Голубков М.М. Русская литература ХХ в.: После раскола. С. 85-86.
[7] Паршин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. [Режим доступа]: https://www.rulit.me/author/parshin-leonid-konstantinovich/chertovshchina-v-amerikanskom-posolstve-v-moskve-ili-13-zagadok-mihaila-bulgakova-download-free-176293.html (дата обращения: 01.11.2020).
[8] Белозерская-Булгакова Л.Е. Воспоминания / Сост. и послесл. И. В. Белозерского. М.: Художественная литература, 1989. С. 92.
[9] См. подробнее.: Мягков Б.С. Булгаковские места (Литературно-топографические очерки) // Творчество Михаила Булгакова: Исследования. Материалы. Библиография. Кн. 1. Л.: Наука, 1991. С. 142-174.
[10] Булгаков М.А. Москва 20-х годов // Он же. Собр. соч.: В 5 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1990. С. 437.
[11] См.: Осьмухина О.Ю., Короткова Е.Г. Хронотоп квартиры в малой прозе М. А. Булгакова // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 12 (66): в 4-х ч. Ч. 1. C. 38.
[12] См. подробнее.: Ромашова Е.Е. Архивные находки из жизни семьи Зощенко // Альманах «XX век»: Сб. статей / Сост. Д. А. Суховей. СПб.: Островитянин, 2015. Вып. 7. С. 5-18.
[13] Островский А.Г. Дом в Сестрорецке. [Режим доступа]: https://gazeta-licey.ru/public/history/6411-dom-v-sestroreczke (дата обращения: 07.03.2021).
[14] Чуковский К.И. Из воспоминаний // Вспоминая Михаила Зощенко / Сост. и подгот. текста Ю. В. Томашевского. Л.: Художественная литература, 1990. С. 50.
[15] См. подробнее: Кучинова А.Р. История дома № 9 на Набережной канала Грибоедова. [Режим доступа]: https://institutspb.ru/pdf/hearings/10-06_Kuchinova.pdf (дата обращения: 08.05.2021).
[16] Слонимский М.Л. Михаил Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. С. 90.
[17] Носкович-Лекаренко Н.А. Слава — это вдова // Там же. С. 306.
[18] Гитович С. С. Из воспоминаний // Там же. С. 276.
[19] Слонимская И.И. Что я помню о Зощенко // Там же. С. 136.
[20] Носкович-Лекаренко Н.А. Слава — это вдова // Там же. С. 306.
[21] Зощенко В.М. Так начинал М. Зощенко // Там же. С. 6.
[22] См.: Поляков В. Зощенко заменить нельзя // Там же. С. 165.
[23] См.: Левитин М.З. Тот самый Зощенко // Там же. С. 299.
[24] Носкович-Лекаренко Н.А. Слава — это вдова // Там же. С. 304.
[25]Меттер И.М. Свидетельство современника // Там же. С. 235.
[26] Меттер И. Свидетельство современника // Там же. С. 235.
[27] Слонимский М.Л. Михаил Зощенко // Там же. С. 86.
[28] См.: Голубков М.М. Русская литература ХХ в.: После раскола. С. 107-108.
[29] Там же. С. 109.
[30] См.: Слонимская И. Что я помню о Зощенко // Там же. С. 136.
[31] См.: Иванова Т.В. О Зощенко // Там же. С. 174-175.
[32] См.: Гитович С. С. Из воспоминаний // Там же. С. 276.
[33] Слонимский М.Л. Михаил Зощенко // Там же. С. 92.
[34] Там же. С. 96.
[35] Чуковский К.И. Из воспоминаний // Там же. С. 53.
[36] Там же. С. 37.
[37] Каверин В.А. Молодой Зощенко // Там же. С. 131.
[38] Там же. С. 131.
[39] Иванова Т.В. О Зощенко // Там же. С. 172.
[40] Булгаков М.А. «№ 13. — Дом Эльпит-Рабкоммуна» // Он же. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М.: Худож. лит. С. 243. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
[41] Соколов Б.В. Булгаков: Энциклопедия. М.: Алгоритм, 2003. С. 368.
[42] Зощенко М.М. Нервные люди: рассказы и фельетоны (1925–1930) // Зощенко М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М.: Время, 2008. С. 179. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
[43] Осьмухина О.Ю. Локус коммунальной квартиры в новеллистике М. Зощенко (На материале рассказов «Кризис», «Беспокойный старичок») // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 5 (71): В 3-х ч. Ч. 1. С. 21.
[44] Там же. С. 23.
[45] См.: Корякина А. Коммунальные квартиры в Москве и Петрограде (Ленинграде) в литературе Михаила Булгакова, Иосифа Бродского, Анны Ахматовой // Вестник МГХПА. 2019. № 3-2. С. 180.
[46] Булгаков М.А. Птицы в мансарде // Он же. Собр. соч. Т. 2. Ранняя проза. Анн Арбор: Ардис, 1985. С. 398. Далее цитируется по этому изданию с указанием тома и страницы в скобках.
[47] Булгаков М.А. Москва 20-х годов // Он же. Собр. соч.: в 5 т. Т. 2. М.: Худож. лит., 1989. С. 436.
[48] Белая Г.А. Русская прививка к мировой сатире (Гоголь и Зощенко). [Режим доступа]: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200100905. (дата обращения: 05.04.2020).
[49] Щербакова П.О. Локус коммунальной квартиры в рассказах М. Зощенко. С. 93.
[50] Аверинцев С. С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева. Вопросы философии. 1993. № 9. С. 16–22.
[51] Исаева Л.А. Языковые особенности рассказов М. М. Зощенко. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 7(61): В 3-х ч. Ч. 3. С. 93.
[52] Там же. С. 95.
[53] Там же. С. 95.
[54] Аверинцев С. С. «Мировоззренческий стиль»: подступы к явлению Лосева. Вопросы философии. 1993. № 9. С. 16–22.
[55] См.: Гаспаров Б.М. Новый завет в произведениях Булгакова // Он же. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 120.
[56] Богданов А.А. Возможно ли пролетарское искусство? [Режим доступа]: https://ruslit.traumlibrary.net/book/bogdanov-proletkult/bogdanov-proletkult.html#s006 (дата обращения: 21.04.2020).
[57] Исаева Л.А. Языковые особенности рассказов М. М. Зощенко. // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2016. № 7 (61): В 3 ч. Ч. 3. C. 93.
[58] См. Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ. Исследования в области мифопоэтического // Он же. Избранное. М.: Прогресс, 1995. С. 35.
[59] Там же. С. 8.
[60] Там же. С. 33.
[61] Там же. С. 27.
[62] Там же. С. 28.
[63] Жолковский А.К. Михаил Зощенко: Поэтика недоверия. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 7. Далее цитируется по этому изданию с указанием страницы в скобках.
[64] Стоименов Й.А., Стоименова М.Й., Коева П.Й. и др. Психиатрический энциклопедический словарь. Киев: МАУП, 2003. С. 660.
[65] Там же. С. 660.
[66] Зощенко М.М. Перед восходом солнца / Под ред. Е. Жиглевич. Германия: Международное Литературное Содружество, 1967. С. 43.
[67] Там же. С. 197.
[68] Там же. С. 181.
[69] См.: Белая Г.А. Русская прививка к мировой сатире (Гоголь и Зощенко). [Режим доступа]: https://lit.1sept.ru/article.php?ID=200100905 (дата обращения: 05.04.2020).
[70] Слонимский М.Л. Михаил Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. С. 88.
[71] Федин К.А. Михаил Зощенко // Вспоминая Михаила Зощенко. С. 108.
[72] Слонимский М.Л. Михаил Зощенко. Там же. С. 88.
[73] АльОтаиби С. М. Теории «Смысл↔текст», «Текст-текст» и машинный перевод // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2011. № 1. С. 138.
[74] См. Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. М.: Ладомир, 2000. С. 110.
[75] Там же. С. 114.
[76] Элиаде М. Избранные сочинения: Миф о вечном возвращении; Образы и символы; Священное и мирское. С. 122.
[77] Паршин Л.К. Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. [Режим доступа]: https://www.rulit.me/author/parshin-leonid-konstantinovich/chertovshchina-v-amerikanskom-posolstve-v-moskve-ili-13-zagadok-mihaila-bulgakova-download-free-176293.html (дата обращения: 01.11.2020).
[78] Там же. С. 82.
[79] Гаспаров Б.М. Новый завет в произведениях Булгакова // Он же. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 84.
[80] Там же. С. 85.
[81] Там же. С. 85.
[82] Там же. С. 86.
[83] Яблоков Е.А. Художественный мир Михаила Булгакова. М.: Языки славянской культуры, 2001. С. 287.
[84] Гаспаров Б.М. Новый завет в произведениях Булгакова. С. 89.
[85] Там же. С. 90.
[86] Гирц К. Интерпретация культур. М.: РОССПЭН, 2004. С. 141.
[87] Там же. С. 140.
[88] Там же. С. 142.
[89] Гаспаров Б.М. Новый завет в произведениях Булгакова. С. 92.
[90] Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа Булгакова «Мастер и Маргарита» // Он же. Литературные лейтмотивы. М., 1994. С. 71.
[91] Яблоков Е.А. Художественный мир М.Булгакова. М., 2001. С. 143.
[92] Там же. С. 85-86.
[93] Гаспаров Б.М. Новый завет в произведениях Булгакова. С. 107.
[94] Гаспаров Б.М. Из наблюдений над мотивной структурой романа Булгакова «Мастер и Маргарита». С. 55.
[95] Гирц К. Интерпретация культур. С. 130.